Филипп Наседкин
ВЕЛИКИЕ ГОЛОДРАНЦЫ
Повесть
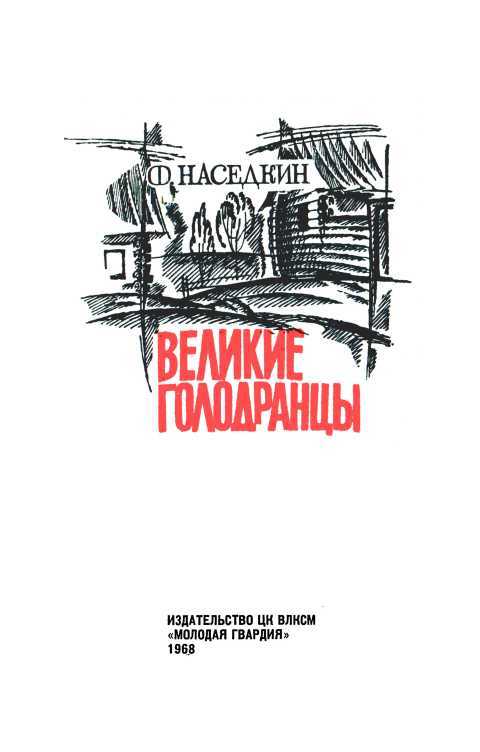

Бледный огонек в синей лампаде вдруг жалобно заморгал и погас, словно задутый ветром. Мать, сокрушенно покачав головой, взяла в печурке спички и взобралась на лавку. Шепча молитву, она иглой выдвинула фитиль и зажгла его. Потом, как-то неловко повернувшись, взмахнула руками и полетела вниз. Я вовремя подхватил ее и поставил на земляной пол, посыпанный свежим песком.
— Осторожно, ма!
Мать истово перекрестилась и со страхом взглянула на темную икону в углу хаты.
— Ох, быть беде! — простонала она. — Неспроста потухла лампадка. И ненапрасно богородица оттолкнула грешницу.
— А ты не накликай беду, — сердито сказала Нюрка, старшая сестра. — Не за что богородице на нас гневаться. Живем не лучше и не хуже других…
Причитая и охая, мать ушла на кухню. Там она готовила куличи, творог, яйца и прочую снедь, чтобы нести в церковь святить. Нюрка вплела голубую ленту в косу, завязала бантом и полезла в сундук за нарядом. На полу у стены Денис, младший братишка, увлеченно возился с опорками, натягивая их на ноги, покрытые цыпками. Он-то, кажется, и совсем не заметил происшествия. Зато я потерянно стоял у окна, будто пришибленный словами матери. Быть беде. Да, да! Вот сейчас она разразится, эта беда. И ничто на свете не предотвратит ее.
Копаясь в сундуке, Нюрка замурлыкала какую-то песенку. И это в страстную субботу! Когда многие сидят на одной воде, не переставая бормотать молитвы. И когда посреди церкви стоит плащаница с телом господним. Меня вдруг обожгла злость. Вот я дрожу оттого, что не могу притворяться. А другие с легкой совестью напускают на себя притворство. Та же Нюрка. Что тянет ее в церковь? Смиренное желание со свечой в руках простоять всенощную? Или необоримая потребность молиться перед плащаницей? Ни то, ни другое. Подружки и дружки манят к святой обители. За высокой оградой в густых кустах сирени и черемухи они недурно проведут пасхальную ночь. Так уж заведено исстари. И никто на такой стыд даже не косится.
А Денису зачем нужно в церковь? Покаяться в грехах перед богом? Да откуда они, грехи, у подростка? Ко всенощной он помчится, чтобы обменять копейки на гривенники. И не один он, многие ребятишки занимаются таким промыслом. Подойдет пацан к плащанице, на которой лежит серебряное блюдо с пожертвованиями, перекрестится кое-как, положит копеечку и возьмет сдачу, в десять раз большую. Через некоторое время — еще раз. Потом — еще и еще. Пока косой пономарь Лукьян не заметит и за ухо не выволокет из церкви.
Мысли эти расстроили меня. Но они и укрепили решимость. Нет, я не хочу обманывать. И будь что будет, а сегодня скажу все. Да и сколько можно мучиться! Уже почти два месяца тянется это. Должен же наступить конец. И лучше будет, если он наступит в этот предпасхальный вечер. Может, не так сурово обойдутся?
В хату вошел отчим. Ему было за шестьдесят. Но выглядел он крепким и здоровым. А теперь даже франтоватым. Ситцевая рубаха подпоясана витым поясом с махрами. Чуть посеребренные волосы зачесаны назад и смочены конопляным маслом. Широкая борода подрезана и раздвоена.
Оглядев нас, отчим остановился на мне.
— А ты что ж, Хвиля, не собираешься? Аль не желаешь вместе с нами?
От его слов похолодело под ложечкой. Вот она, страшная минута. Ждал, готовился, а грянула внезапно. Как гроза в ясную погоду.
— Я не пойду в церковь.
Отчим растерянно заморгал глазами. Нюрка уронила крышку сундука. Разинув рот, Денис не то испуганно, не то удивленно уставился на меня.
— Я не пойду в церковь! — повторил я. — Нечего мне там делать!
В дверях показалась мать. Она слышала мой ответ, и явилась, и теперь смотрела на меня так, как будто я был сумасшедшим.
— Я не пойду в церковь! — громко повторил я, чувствуя, как замирает сердце. — Я записался в комсомол. А комсомольцы не ходят в церковь.
В хате повисла тяжелая тишина. Все смотрели на меня, как на прокаженного. Мать осторожно приблизилась ко мне.
— Что ты такое сказал? — спросила она. — Ну-кось, скажи еще раз.
— Я комсомолец! — твердо выговорил я. — И не верю в бога!
Нюрка пальцами сжала подрумяненные щеки и заголосила на всю хату:
— Анчутка проклятый! Чума бы тебя сразила, окаянный!
Губы матери дрогнули. Впалые глаза сверкнули гневом. Но она не выругалась. И не заплакала. С минуту вглядывалась в мои глаза, будто хотела заглянуть в душу. Потом схватила меня за волосы, повалила на пол и принялась бить. И все молча, яростно, остервенело. Я увертывался, вырывался, закрывался руками, но ничто не помогало. Удары градом сыпались на меня. И я уже готов был запросить пощады, как отчим оттащил мать.
— Не надо, Параня. Ради праздника не бери грех на душу.
Я вскочил на ноги и хотел было броситься вон. Но что-то удержало меня. Должно быть, стыд за трусость? Я стал перед матерью, словно опять подставляя себя.
— Не пойду!.. Хоть убей!
Мать тяжело дышала. Большие красные руки ее дрожали. И вся она тряслась, как в лихорадке. А отчим гладил ее плечи и тихо повторял:
— Не надо, Параня. Не бери грех… Нынче такой день…
Мать вырвалась, снова подступила ко мне.
— А ну, где он у тебя, этот сатанинский билет?
Я невольно прижал руку к груди. Там, в боковом кармане старенького пиджака, лежала книжечка с силуэтом Ильича.
— А ну подай! — требовала мать. — Подай сейчас же! Я сожгу эту греховодную печать, чтобы тебя самого не спалил святой пламень. Подай, слышишь? И ступай в церкву. Всю ночь на коленях молись перед гробом господним…
Я отступил назад.
— Не дам. И не пойду в церковь.
Темное лицо матери перекосилось, будто в судороге.
— Ну, коль так, то убирайся из дому. Убирайся, чтоб духу твоего не было, консомолец…
С этими словами она схватила меня за шиворот и потащила в сени. На пороге так двинула в спину, что я вылетел во двор и растянулся на земле.
— Выродок несчастный! — прохрипело позади. — Чтобы тебя тартарары!..
Глухо звякнула задвижка, и все стихло. Я встал, потер ушибленное колено и заковылял со двора. На улице остановился, оглянулся по сторонам. Над Карловкой уже стлался вечер. Из ворот кое-где выходили первые богомольцы. Разодетые и умиленные, они несли куличи, завернутые в рушники. А в церкви уже вспыхивали и переливались огоньки. Оттуда доносился мерный гул колокола. Он то замирал, точно уносился куда-то, то вновь возникал, тягучий и нудный. Я невольно вслушивался в этот надсадный звон, и мне чудились в нем голоса бога и дьявола, одинаково потешавшихся надо мной.
В сельсоветском доме тоже мерцал свет. Через окно видны были сгрудившиеся над столом ребята. Комсомольская ячейка!
Несколько минут я стоял на крыльце, прислонившись к шершавой стойке. Как рассказать о том, что случилось? Поймут ли? И помогут ли? А как и чем можно помочь в такой беде?
Ребята будто и не заметили меня. Только Маша Чумакова подвинулась, давая место на скамье. А Прошка Архипов, секретарь ячейки, не поднимая глаз от бумаги, сказал:
— Директива за подписью Симонова. Об антирелигиозной пропаганде…
И снова принялся читать — ровно и бесстрастно, как дьячок на клиросе. Ребята заметно напрягали внимание. Выглядели они сумрачными, даже усталыми. Видно, нелегкая попалась директива. Но мне все же они показались счастливыми. Еще бы! За комсомол не ругают, из дому не гонят. Не хочешь, а позавидуешь.
Но вот Прошка закончил читать. Ребята сразу оживились, повеселели. А Илюшка Цыганков, плотный, коренастый парень, спросил:
— Что же будет дальше?
— Как это что? — удивился Прошка. — Будем намечать мероприятия.
— А на кой они, мероприятия? — спросила Маша Чумакова. — Пасха-то в разгаре уже. Слышите, как бухает?..