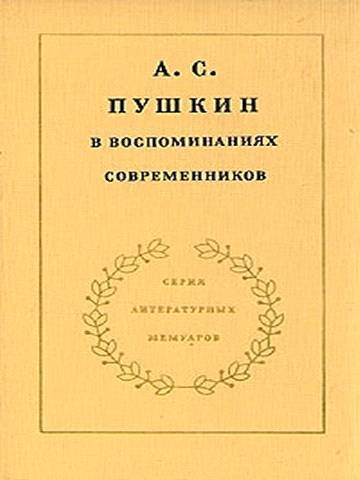
Пушкин в воспоминаниях современников
Том 2
v
Н. В. ПУТЯТА[1
]
ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ[2
]
А. С. Пушкина я видел в первый раз в Москве, в Большом театре, во время празднеств, последовавших за коронациею императора Николая Павловича.
Театр наполняли придворные, военные и гражданские сановники, иностранные дипломаты, словом — все высшее, блестящее общество Петербурга и Москвы.
Когда Пушкин, только что возвратившийся из деревни, где жил в изгнании и откуда вызвал его государь, вошел в партер, мгновенно пронесся по всему театру говор, повторивший его имя: все взоры, все внимание обратилось на него.
У разъезда толпились около него и издали указывали его по бывшей на нем светлой пуховой шляпе. Он стоял тогда на высшей степени своей популярности.
Дня через два Е.Баратынский, другой поэт-изгнанник, недавно оставивший печальные гранита Финляндии, повез меня к Пушкину, в гостиницу «Hotel du Nord», на Тверской. Пушкин был со мною очень приветлив.
С этого времени я довольно часто встречался с Пушкиным в Москве и Петербурге, куда он скоро потом переселился. Он легко знакомился, сближался, особенно с молодыми людьми, вел, по-видимому, самую рассеянную жизнь, танцевал на балах, волочился за женщинами, играл в карты, участвовал в пирах тогдашней молодежи, посещал разные слои общества.
Среди всех светских развлечений он порой бывал мрачен; в нем было заметно какое-то грустное беспокойство, какое-то неравенство духа; казалось, он чем-то томился, куда-то порывался. По многим признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая Павловича тяготили его и душили. Посредником своих милостей и благодеяний государь назначил графа Бенкендорфа, начальника жандармов. К нему Пушкин должен был обращаться во всех случаях. Началась Турецкая война[3
]. Пушкин пришел к Бенкендорфу проситься волонтером в армию. Бенкендорф отвечал ему, что государь строго запретил, чтобы в действующей армии находился кто-либо не принадлежащий к ее составу, но при этом благосклонно предложил средство участвовать в походе: хотите, сказал он, я определю вас в мою канцелярию и возьму с собою? Пушкину предлагали служить в канцелярии III-го Отделения!
Пушкин просился за границу, его не пустили. Он собирался даже ехать с бароном Шилингом, в Сибирь, на границу Китая. Не знаю, почему не сбьшось это намерение; но следы его остались в стихотворении:
Поедем, я готов.....
К подножию ль стены недвижного Китая и пр.[4
]
Наконец, весною в 1829 г., Пушкин уехал на Кавказ. Из Тифлиса он написал к гр. Паскевичу и, получив от него позволение, догнал армию при переходе ее через хребет Саган-Лу. Памятником этой поездки осталось прекрасное описание «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 г.». По возвращении Пушкина в Петербург государь спросил его, как он смел приехать в армию. Пушкин отвечал, что главнокомандующий позволил ему.
Государь возразил: Надобно было проситься у меня. Разве не знаете, что армия моя ?
Слышал я все это тогда же от самого Пушкина.
По выходе в свет его «Истории Пугачевского бунта» появилась пошлая на нее критика в «Сыне Отечества»[5
]. Только что прочитав эту критику, я пошел на Невский проспект, встретил Пушкина и шутя приветствовал его следующей оттуда фразой: «Александр Сергеевич! Зачем не описали вы нам пером Байрона всех ужасов Пугачевщины?» Пушкин рассмеялся и сказал: «Каких им нужно еще ужасов? У меня целый том наполнен списками дворян, которых Пугачев перевешал. Кажется, этого достаточно!»
После 1830 г. Пушкина женатого я видел реже. Во время его дуэли я был несколько болен и не выходил из комнаты. Узнав о его смерти, я с принуждением оделся и отправился на его квартиру, на Мойке, близ Певческого моста, в нижнем этаже дома князя Волконского. У гроба был беспрерывный прилив людей всех состояний, приходивших поклониться праху любимого народного поэта. Здесь я узнал, что отпевание тела его будет в Адмиралтейской церкви. На другой день, в назначенное время, подъезжаю к этой церкви и, к удивлению моему, вижу, что двери заперты, а около бродят несколько человек в таком же недоумении, как и я. Оказалось, что из опасения какой-либо манифестации на похоронах Пушкина, накануне, в ночь, приказано переменить место отпевания. Оно происходило в Конюшенной церкви. Когда, по разным соображениям и расспросам, я добрался туда, гроб уже выносили из церкви несколько друзей и лицейских товарищей покойного. Сколько мне помнится, австрийский посланник граф Фикельмон и французский граф Барант одни были в мундирах и лентах.
Зимою, в конце 1837 или 1838 г., приезжал в Петербург на нескодько дней Е.Баратынский и останавливался у меня. В. А. Жуковский, коему государь поручил разобрать бумаги Пушкина, дал Баратынскому одну из его рукописных тетрадей in folio в переплете. В ней находился напечатанный потом отрывок Пушкина о Баратынском. Тетрадь эта оставалась у последнего самое короткое время; он был уже в отъезде и просил меня тотчас возвратить ее Жуковскому, что я и исполнил. Кроме помянутого отрывка, в этой тетради находились некоторые другие статьи в прозе и клочки дневника Пушкина разных годов. Помню из него почти слово в слово следующие места: 1) число, месяц. «Сегодня приехали в Петербург два француза, Дантез и маркиз Пинна». В этот день ничего более не было записано. Что замечательного мог найти Пушкин в их приезде? Это похоже на какое-то предчувствие! 2) число, месяц......»Меня пожаловали камер-юнкером для того, чтобы Наталья Николаевна могла быть приглашаема на балы в Аничков. Вечером я был на бале у Б. Великий князь Михаил Павлович встретил меня в дверях и поздравил. Я отвечал ему: ваше высочество, вы одни меня поздравляете, все надо мною смеются»[6
].
Пушкин был необыкновенно впечатлителен и при этом имел потребность высказаться первому встретившемуся ему человеку, в котором предполагал сочувствие или который мог понять его. Так, я полагаю, рассказал он мне ходатайство свое у графа Бенкендорфа и разговор с государем.
Такую же необходимость имел он сообщать только что написанные им стихи. Однажды утром я заехал к нему в гостиницу Демута, и он тотчас начал читать мне свои великолепные стихи из «Египетских ночей»: «Чертог сиял» и пр.... На вечере, в одном доме на островах, он подвел меня к окну и в виду Невы, озаряемой лунным светом, прочел наизусть своего «Утопленника», чрезвычайно выразительно[7
].
У меня на квартире читал он мне стихи: «Таи, таи свои мечты»[8
] и пр. и, по просьбе моей, тут же написал мне их на память. Все эти стихотворения были напечатаны уже впоследствии.
Не хвастаюсь дружбой с Пушкиным, но в доказательство некоторой приязни его и расположения ко мне могу представить, кроме помянутого автографа, еще одну записку его на французском языке. Пушкин прислал мне эту записку со своим кучером и дрожками. Содержание записки меня смутило, вот оно: «M’etant approche hier d’une dame, qui parlait a m-r de Lagrene, celui-ci lui dit assez haut pour que je l’entendisse: renvoyez-le! Me trouvant force de demander raison de ce propos, je vous prie, monsieur, de vouloir bien vous renre aupres de m-r de Lagrene et de lui parlier en consequence. Pouchkine»1.
Я тотчас сел на дрожки Пушкина и поехал к нему. Он с жаром и негодованием рассказал мне случай, утверждал, что точно слышал обидные для него слова, объяснил, что записка написана им в такой форме и так церемонно именно для того, чтоб я мог показать ее Лагрене, и настаивал на том, чтоб я требовал у него удовлетворения. Нечего было делать: я отправился к Лагрене, с которым был хорошо знаком, и показал ему записку. Лагрене, с видом удивления, отозвался, что он никогда не произносил приписываемых ему слов, что, вероятно, Пушкину дурно послышалось, что он не позволил бы себе ничего подобного, особенно в отношении к Пушкину, которого глубоко уважает как знаменитого поэта России, и рассыпался в изъяснениях этого рода.