«Да, смерть глядела этой зимой в самые наши зрачки, глядела долго и неотрывно, — рассказывала Ольга Берггольц выжившим ленинградцам про них самих, как рассказывают человеку про кризис болезни, когда он миновал, — но она не смогла загипнотизировать нас, как гипнотизирует удав намеченную жертву, обезволивая ее и покоряя. Фашисты, заславшие к нам смерть, просчитались».
Город чувствовал себя, как человек после тяжелейшей болезни: слабость, но и невероятный прилив душевных сил, жадность к жизни.
«Я работала санитаркой в эвакогоспитале № 68 на углу Б. Пушкарской, — пишет Вера Ивановна Павлова из Тосно. — Ни воды, ни света, почти у всех был голодный понос. И вот в такой палате почти умирающие вдруг закричали: «Ребята, победа, ура, ура!» Это был апрель 1942 года, по-моему, 15 апреля. И полезли кто как мог к окнам. Ура! Победа! Оказывается, зазвенел трамвайный звонок и прошел трамвай, который всю зиму стоял на Большом проспекте. Если бы вы видели, сколько было радости! Кто посильнее говорили: «Это уже победа!» — убеждали, объясняли…»
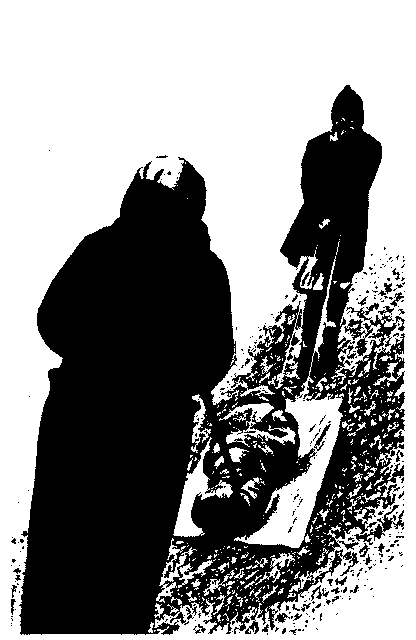
В некоторых записях и дневниках звучит восторг, ликование летних дней 1942 года, когда на город хлынули потоки солнечного света, запоздалого тепла, зеленые листочки появились на ветках, трава брызнула из развороченной земли.
Такая вот безоглядная, нерассуждающая радость вычитывается в дневнике девятнадцатилетней Галины Бабинской:
«27 июня 1942 года: Город — как хочется писать о нем, о нашем Ленинграде! Тот, кто не перенес эту зиму здесь, не чувствовал, не перенес всех ее трудностей на себе, не может понять радости ленинградцев, наблюдающих возрождение своего родного города. Об этом хочется говорить и говорить без конца, говорить об этом возвращении к жизни. Сейчас в особенности оживление города заметно на каждой мелочи. Незаметно это для постороннего глаза, для глаза, не видевшего Ленинград зимой.
Улицы и проспекты совершенно чистые, с шумом и звонками. Как приятно слышать эти звонки, сидя дома у окна за работой. И так, со звонками, пробегают мимо сверкающие чистотой стекол трамваи. Всего несколько маршрутов, но все-таки это настоящий трамвай. И сколько человеческих жизней спас трамвай. Трамвай спас жизни! А прежде говорили наоборот. Да, нам понятно это выражение — трамвай спас жизни!
На трамвайных остановках толпы. На улицах снуют взад и вперед деловые люди. Но есть и женщины нарядные, мужчины, женщины, ребятишки. В садике у театр особенно нарядна публика: женщины с модельными прическами, в изящных туфлях, в изящных платьях всех цветов радуги; мужчины в начищенных костюмах, в нарядных ботинках. Но главным образом военные. На некоторых девушках исключительно складно сидят шинели, девчата здоровые, румяные, веселые.
В кассах кинотеатров и театров, в Музыкальной комедии — очереди. Перед началом спектаклей у подъездов собирается большая толпа неудачников, не имеющих билетов. В саду Дворца пионеров концерты джаза Клавдии Шульженко и Владимира Коралли. Открывается сад отдыха. Дает концерты филармония. На улицах группа людей возле очередного номера свежей газеты. Народ заходит в промтоварные и продуктовые магазины. Продавщицы в чистых белых халатах. На полках чистые белые занавески. Продукты выдаются в срок и без очередей. А на углах чистильщики сапог. Парикмахерские полны дам на маникюр и горячую завивку — со своим керосином!..»
Или как вспоминает С. С. Локшин пословицу тех дней: «Заходите с керосинками — выходите блондинками!»
Вот как оно воспринималось после блокадной зимы! Здесь все гиперболизировано. Но преувеличенность эта, ликование, умиление, жажда видеть, находить только хорошее показывает не столько весну и лето 1942 года, сколько лютость ушедшей зимы, нечеловеческий ужас пережитого.
То, что очистили город, что ослабевшие руки сумели поднять лом, воткнуть лопату, вывезти тачку, было чудом. Сегодня, издали, это воспринимается естественно. Вышли, выходили день за днем люди во дворы, на улицы, площади, скололи лед, убрали завалы грязи, отбросов, нечистот, вывезли, вычистили, отмыли… Что-то похожее» на теперешние апрельские субботники. Но тогда у самих же ленинградцев результаты работы вызывали изумление. Они не предполагали, что сумеют это сделать, что осилят. Секретари райкомов, председатели райисполкомов знали, что сделать это необходимо, но не понимали, каким образом высохшие, вялые от слабости, похожие на призраков люди смогут справиться — вручную, без механизмов, машин — с таким гигантским трудом.
Почти у каждого блокадника бережно хранится справка, которую давали тем, кто участвовал в очистке города.
Как же было в городе летом 1942 года?
Город грелся.
Люди стояли, сидели на солнышке, стараясь прогреть замерзшее, казалось, до самых костей тело. Холод выходил медленно, долго. До июня стены домов еще дышали холодом. Солнце было также и светом, от которого отвыкли. Люди наслаждались ярким светом, открывали окна, забитые фанерой, завешенные одеялами, тряпками. Солнце беспощадно высвечивало внутренности комнат. Закопченные стены, потолки. Обломки несожженной мебели. Вывороченный на дрова паркет. «Буржуйка». Тряпье на кроватях, диванах. Грязь, грязь, нечистоты, обломки, осколки стекла, посуды — следы бомбежек… Опустели книжные полки. Повсюду проступали следы потерь и смертей. Во что превратились лестницы, дворы! Крыши продырявлены, прожжены зажигалками, пробиты осколками. Из всех окон торчали трубы «буржуек». Открылись от снега развалины, остовы горелых домов…
Человеку нужна возможность оглядеться, увидеть себя и ужаснуться. Это было необходимо.
Город оживал.
Откуда-то появились силы. Заготавливались дрова, торф для электростанции. Исчезли очереди за водой, заработал водопровод, не везде, но в дома один за другим стали подавать воду, хотя бы в нижние этажи. Открывались бани, прачечные. Стали изготавливать подошвы. Их штамповали из старых автомобильных и авиационных покрышек. Реставрировали одежду. Стали шить пальто, костюмы. Делалось много. Однако обстрелы продолжались. И бомбежки. Питания не хватало. На скудном пайке истощенный организм не способен был полностью восстановить силы. Давали куда больше, чем зимой. Уже с 11 февраля 1942 года ленинградцы начали получать: рабочие — 500 граммов хлеба, служащие — 400 граммов, дети и иждивенцы по 300 граммов, стали выдавать крупу, сливочное масло. И все же этого было недостаточно, питания не хватало, нужны были витамины, овощи…
«На нашем дворе появились первые листки. И вот из окна своего дома я вижу: подошел к дереву гражданин, стал срывать эти листья и класть в рот, а затем открыл портфель и начал бросать листья в портфель… Это дерево и сейчас стоит около стены дома в нашем дворе…» (Вера Яковлевна Бокина).
В парках и садах невозможно было увидеть ни одной одуванчика. Из листьев одуванчика варили щи, из корней, мясистых, сочных, делали лепешки. За одуванчикам приходилось ездить все дальше — в Удельную, Озерки! По знакомству двенадцатилетнюю Марину Ткачеву пропустили за одуванчиками в зоопарк. Она не может забыть, что там она ранним летом 1942 года увидела живого бегемота. Как раз соседка, которая пригласила ее (она работала в бегемотнике), и спасла бегемота. Это тоже одна из правдивых ленинградских легенд, о которой, к сожалению, Марина Александровна подробностей не знает. Помнит лишь свои страхи и восторг, с каким миновала клетку, косясь на бегемота, помнит, как потом соседка вывела ее на траву к одуванчикам. И помнит еще, как проходила служительница и что-то сердитое пробурчала насчет этих одуванчиков, которые, мол, растаскивают посторонние. Она имела, наверное, в виду интересы зоосадовских зверей.
«На рынках стали траву разную продавать — по 30–40 рублей за сто граммов щавеля просят, а то и хлеб им давай. Я купила крапивы и сварила щей, а на следующий раз лебеду сварила. До чего голод довел людей, смотришь, на вид приличная дама, нагнувшись, щиплет травку и кладет в рот, как коза» (Из дневника Ольги Ефимовны Эпштейн).