Сергей Мстиславский
ДВА ЯНА
Рассказ
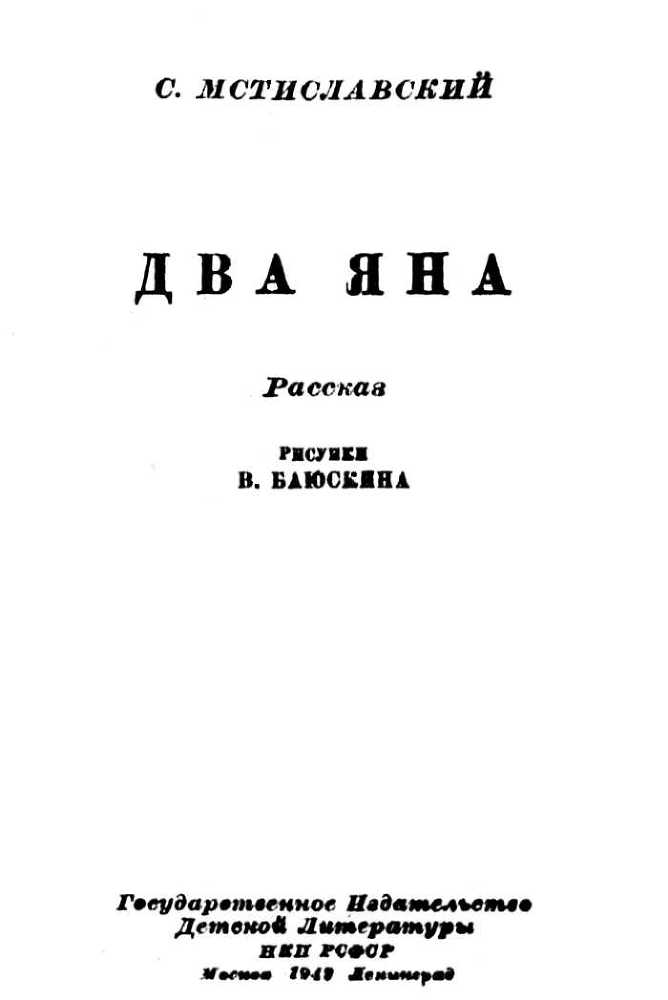

I
Моросил дождик — мелкий, нудный, частый, холодный и — как это ни дико, ни странно в летнюю пору — колючий. Поля по обе стороны дороги на далеко, насколько хватало глаза — во весь простор, до синевших на горизонте, сквозь сетку дождя, недвижных лесов — были выжжены, и черно-желтая, взъерошенная недогоревшими стеблями ржи земля казалась Яну, угрюмо шагавшему на фланге своего отделения, мертвой и все же злой и жутко-угрозной. Еще дымились седым пеплом, как саваном обернутые, бревна какого-то строения у поваленного, тоже обугленного огнем столба. Склад? Дорожная сторожка? Харчевня? И самая дорога — широкая, прямая, мощеная — не ложилась покорно под ноги маршировавшей колонны, под копыта коней, под колеса автомобилей и повозок, но дыбилась грудами развороченных булыжников, засекала путь рвами и волчьими ямами, из которых кое-где торчали торчком борта и оси неосторожных — провалившихся, завалившихся — машин. И от вида этик обломков и всего этого разрушения становилось еще темней на душе, потому что боев в этой местности не было, войска этой дорогой не шли, и все, что видел глаз, было делом не военных, а мирных крестьянских рук.
Мирных!.. Ян тряхнул головой. Вот слово, которое звучит прямо-таки насмешкой в этой стране, где даже дождевая капель, еле заметными светлыми бусинками ложащаяся на плечи, на рукава, на походные вещевые мешки, колет кожу, как раскаленные стужей иглы. Дико и странно, но это так. Три месяца уже прошло, как рота Яна — 3-я рота батальона одного из чешских полков — переступила советскую границу, и ни одного дня не было, хоть чем-нибудь напоминающего о мирной жизни. Даже в самом глубоком тылу.
Тяжко живется. Тяжко дался и сегодняшний день. Переход был большой, и шли, как всегда в этой небывалой войне, форсированным маршем, пешком. Войсковое соединение, в которое входят чехи, — смешанное, в нем главным образом австрийцы и мадьяры, «чистопородных» немцев нет, а «неполноценных по крови» нацистский штаб не балует механизированным транспортом. Гитлер даже австрийских немцев называет «славянскими метисами», «сбродом», который надо раздавить; венгерцы для него — «конокрады», чехи — «насекомые», поляки — «клопы». Всем этим достаточно для передвижения собственных ног: беречь их нечего. Об этом нацисты говорят и пишут не скрывая, открыто, даже теперь, когда чехи и венгерцы умирают в одном ряду с ними, с «расой господ».
Не раз уже Ян до боли сжимал крепкие, тяжелые свои челюсти, когда приходилось идти, таща на спине тяжелый солдатский походный груз, с трудом выволакивая ноги из густой и вязкой проселочной грязи, а мимо катили грузовики, да еще грузовики чешской же работы, его родных чешских заводов. Брызги грязи, летевшие в лицо из-под колес, Ян принимал как плевки краснорожих, усмехающихся мотопехотинцев, удобно рассевшихся на лавочках автомашин. И сейчас, когда в обгон тянувшейся по грязи усталой пехоте опять пошли грузовики с эсэсовцами, Ян не без злорадства смотрел, как они буксуют, кренятся, стопорят на исковерканном, хватающем за колеса дорожном полотне, давая себя обогнать пешим «насекомым». Сегодня и этим баловням гитлеровским нелегко дается поездка!
Он не стерпел, сказал об этом шагавшему с ним рядом Прокопу Штепанеку, обер-ефрейтору. До захвата Чехии немцами Штепанек был учителем, даже написал, говорят, какую-то книгу по истории Чехии. Когда немцы закрыли его школу, его забрали в армию. И хотя он никогда не принимал участия в разговорах о Чехии и немцах и, когда они случались, всегда молчал или, чаще, уходил, — не может все-таки быть, чтобы он стоял за фашистов, как этот поганец Фома из его же, яновского, отделения. Фома, как и все остальные, чех, у него этого, к сожалению, не отнимешь, но он бывший кельнер, он привык допивать чужие стаканы и кружки и, согнувшись в три погибели, получать чаевые от господ. Лакейская душонка! Его ж близко даже нельзя поставить к Штепанеку, а не то что на одну доску. Если Штепанек, другим не в пример, молчит, то потому только, наверно, что опасается охранных ушей. Любор Тыль, присяжный остряк роты, говорит, что они к каждому ранцу пришиты. Штепанек недаром обер-ефрейтор: у него выдержка.
Выдержка, да. Но на этот раз на слова Яна о пешем хождении и охранниках на чешских машинах обер-ефрейтор усмехнулся чуть-чуть, краем губ.
— Благодари бога, что тебе приходится таскать только себя, а не возить на себе господ немцев, как наши предки дулебы возили на себе аваров. В старых летописях так и записано: «Если надо было ехать авару, то он не позволял запрягать ни коня, ни вола, а приказывал запрячь трех, четырех или пятерых женщин или мужчин дулебских в телегу и везти авара».
Ян спросил сквозь зубы:
— Давно это было?
— Тысячу триста лет назад.
— И тогда на нас тоже ездили? Авары — это что? Тоже немцы были?
Штепанек улыбнулся шире.
— Неизвестно, кто они были такие. И никогда не будет известно. Потому что в тех же летописях записано: «Они сгинули все, от них ни потомства не осталось, ни наследства. Никакого следа».
Ян кивнул удовлетворенно и тоже усмехнулся.
— От тех, кто ездил, следа не осталось, а те, кто возил, по сей день живы: мы с вами шагаем, господин обер-ефрейтор. Это справедливо. Это дает охоту жить, хотя за тысячу триста лет мы и не добились еще свободы.
— Мы бились за нее все века нашей истории, — тихо, не глядя, словно для себя только, проговорил Штепанек. — Но что мы можем сделать, когда нас так мало, а кругом…
— Не разговаривать в строю! — лениво и растяжисто крикнул командир роты; он шел впереди, на фланге первого взвода. — Лейтенант, следите за дисциплиной марша!
Лейтенант, взводный командир, молча поднял руку к козырьку фуражки и подровнялся к Штепанеку, но ничего не сказал. И не скажет: он чех, как все младшие офицеры батальона, а ротный, как и весь остальной старший командный состав, — немец. И отношения между старшими и младшими, само собой разумеется, собачьи. Так что особенно чиниться с лейтенантом не приходится: он свой человек. Ян сказал почти громко:
— Дисциплина марша, скажите на милость! Два дня не получали горячего, хлебный паек половинный, и шагаем целые дни. У меня ноги стали как ливерные сосиски.
Сосед по шеренге щелкнул языком.
— Эх, если бы в самом деле! С каким наслаждением мы бы тебя освежевали тогда, Ян…
— Смирно! Глаза напра-во! — торопливо и хмуро скомандовал лейтенант, оглянувшись на сирену подъезжавшего автомобиля, и отдал честь.
Мимо, пользуясь тем, что впереди залегал неискалеченный, ровный участок, промчался, вихляя и подскакивая на выбоинах, мотоцикл, а за ним легковая изящная, но сплошь забрызганная грязью машина. Ян увидел худощавое, бритое, пасмурное лицо, пенсне на горбатом носу, полковничьи погоны. Два пальца неторопливо и небрежно поднялись к козырьку.
Командир полка… По шеренгам прошло движение. Яну тревожно подумалось: не случилось ли чего-нибудь там, впереди? Ведь мотоциклист — тот самый, что полчаса назад прокатил навстречу от передовых частей. Неужели опять бой вместо отдыха в избе, где можно хоть растянуться, снять мокрую, жмущую ногу обувь, напиться если не кофе, то хоть кипятку?! Ведь сегодня, когда выступали, сам майор, командир батальона, сказал определенно, что дорога свободна, советских частей на этом участке нет и в Меленках, где назначен ночлег батальону, уже находятся разведчики. Русских не было, а сейчас появились? Ведь не раз уже было, что они как из земли вырастали там, где их никто не ждал. Они по-своему ведут войну, не по общим правилам…
— Меленки! — неожиданно проговорил лейтенант, вытягивая шею. — А ну, шире шаг, прибавить ходу!
Ночлег? Приказание не пришлось повторять дважды: все подтянулись сразу. В самом, деле, показались постройки, плетни огородов, деревья. Толстая жердь колодезного журавля, розовая каменная колокольня с блестящим пузатым куполом, без креста. И дождь перестал, как назло, только теперь, когда все равно через несколько минут они будут под крышей.