Но на десятый или двенадцатый день пути, когда они уже вошли во Фландрию, неподалеку от города Намюра, все старания Квентина предотвратить последствия буйного поведения его дикаря проводника и замять поднятый им скандал не привели ни к чему. Дело происходило в одном францисканском монастыре[126] с очень строгим и суровым уставом, настоятель которого был впоследствии причислен к лику святых. После долгих препирательств (как и следовало ожидать в таком месте) Квентину наконец удалось поместить несносного цыгана в отдельном домике монастырского садовника. Тотчас по приезде дамы, как всегда, удалились в отведенные им комнаты, а настоятель, у которого оказались в Шотландии друзья и знакомые и который вообще любил послушать рассказы иностранцев, пригласил Квентина, почему-то сразу ему приглянувшегося, в свою келью — разделить с ним его скромную монастырскую трапезу. Отец настоятель оказался человеком умным и образованным, и Квентин решил воспользоваться случаем, чтобы порасспросить его о положении дел в Льеже и его окрестностях. За последние два дня до него стали доходить слухи, заставлявшие его серьезно опасаться, удастся ли им благополучно достигнуть места своего назначения и будет ли епископ в состоянии дать верное убежище дамам, даже если бы им удалось добраться к нему. Ответы настоятеля были весьма неутешительны.
— Граждане Льежа, — сказал он, — всё богатые люди, разжиревшие и забывшие бога; они возгордились своим богатством и привилегиями, много раз спорили с герцогом, своим законным господином, по поводу разных льгот и налогов, и не раз эти споры переходили в открытое восстание, так что герцог, человек горячий и вспыльчивый, выведенный наконец из терпения, поклялся святым Георгием, что при первом же новом бунте он накажет мятежников для примера и острастки всей Фландрии и Льеж постигнет та же участь, какая некогда постигла Вавилон и Тир[127].
— И, судя по слухам, герцог — такой человек, который не поколеблется выполнить свою угрозу. — заметил Квентин, — так что, надо думать, жители Льежа будут теперь вести себя осторожней.
— Будем надеяться, — сказал настоятель. — Об этом молят бога все благочестивые граждане нашей страны, не желающие, чтобы кровь человеческая лилась как вода и чтобы люди погибали как отверженцы, не примирившись с небом. Наш добрый епископ также денно и нощно печется о сохранении мира, как и подобает служителю алтаря, ибо в писании сказано: «Beati pacifici...»[128] Но… — Здесь настоятель умолк и тяжело вздохнул.
Квентин объяснил почтенному старику, как важно было для дам, которых он сопровождал, иметь точные сведения о положении в стране, и постарался убедить отца настоятеля, что с его стороны было бы поистине добрым делом сообщить им все, что ему известно на этот счет.
— Никто не говорит охотно об этих вещах, — сказал настоятель, — ибо все, сказанное о сильных мира сего etiam in cubiculo[129], обращается в крылатую весть, которая в конце концов всегда дойдет до их ушей. Тем не менее, желая оказать посильную услугу вам, ибо вы кажетесь мне достойным, рассудительным молодым человеком, и вашим спутницам, исполняющим столь богоугодное дело, я буду с вами вполне откровенен.
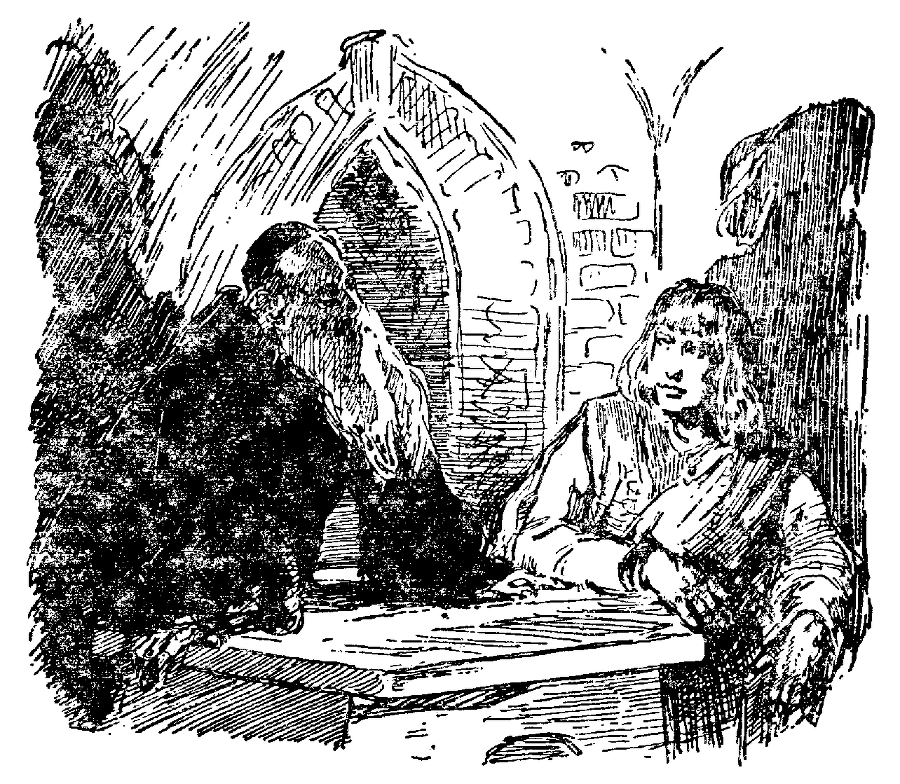
Тут он подозрительно оглянулся, словно боясь, как бы его не подслушали, и продолжал, понизив голос:
— Жителей Льежа постоянно подбивают на восстания сыны Велиала, утверждающие — надеюсь, ложно, — будто они действуют по поручению нашего наихристианнейшего короля. Я, со своей стороны, считаю его слишком достойным этого высокого звания, чтобы допустить, что он способен нарушать мир и благоденствие соседнего государства. Но, как бы то ни было, имя его вечно на устах у тех, кто сеет и раздувает недовольство среди льежских граждан. Кроме того, есть здесь у нас один дворянин, человек знатного рода, прославившийся своими воинскими подвигами, но во всем остальном он lapis offensionis et petra scandali[130] — настоящее бельмо на глазу у всей Фландрии и Бургундии. Человека этого зовут Гийом де ла Марк.
— По прозванию Бородатый, — докончил Дорвард, — или Арденнский Дикий Вепрь.
— И это прозвище вполне ему подходит, сын мой, — сказал настоятель. — Он в самом деле дикий лесной вепрь, который топчет своими копытами и разрывает клыками все, что попадается ему на пути. Он набрал себе шайку — более тысячи человек — таких же разбойников, как он сам, не признающих ни светской, ни духовной власти, держится независимо от герцога Бургундского и живет грабежом и насилием, нападая и на духовных лиц и на мирян — без разбора. Imposuit manus in Christos Domini[131], он поднимает руку даже на помазанников божьих, вопреки словам, сказанным в писании: «Не касайся моих помазанников и не делай зла моим пророкам». Даже нашей смиренной обители он предъявил требование прислать ему серебра и золота в виде выкупа за наши жизни — мою и братии. На это мы ответили ему латинским посланием, объясняя, что мы не в состоянии исполнить подобное требование, и увещевая его словами проповедника: «Ne moliaris amico tuo malum, cum habet in te fiduciam»[132]. Но, невзирая ни на что, этот Гийом Бородатый, или Гийом де ла Марк, так же отвергающий человеческие знания, как и человеческие чувства, ответил нам на смехотворном жаргоне, который он, видимо, принимает за латынь: «Si non payatis, brulabo monasterium vostrum»[133].
— Тем не менее, отец мой, вы поняли смысл этой варварской латыни, — заметил Квентин.
— Увы, мой сын, страх и нужда — лучшие из наставников! — сказал настоятель. — Делать нечего, пришлось расплавить серебряные сосуды нашего алтаря, чтобы удовлетворить алчность этого разбойника, да воздаст ему небо сторицей! Pereat improbus — amen, amen, anathema esto[134]!
— Я только дивлюсь одному, — сказал Квентин, — как могущественный герцог Бургундский не усмирил этого зверя, о бесчинствах которого я уже столько слышал.
— Увы, сын мой, — ответил настоятель, — герцог Карл в настоящее время в Перонне, где он собрал начальников своих войск, чтобы объявить войну Франции. А пока по воле божьей идет раздор между двумя великими государями, страна остается под властью мелких угнетателей. Но все-таки скажу: напрасно герцог не принимает решительных мер против этой внутренней язвы, ибо Гийом де ла Марк вошел уже в открытые сношения с Руслером и Павийоном — вожаками недовольных жителей Льежа — и теперь, того и гляди, подобьет их на какую-нибудь отчаянную проделку.
— Но разве у епископа Льежского не хватит влияния и власти, чтобы подавить мятеж, отец мой? — спросил Квентин. — Прошу вас, скажите мне откровенно ваше мнение: ваш ответ чрезвычайно важен для меня.
— У епископа, дитя мое, меч и ключи святого Петра[135], — ответил настоятель. — Он пользуется покровительством могущественного бургундского дома, в его руках сосредоточена светская и духовная власть, и в случае нужды он может поддержать ее с помощью довольно значительного и хорошо вооруженного войска. Гийом де ла Марк вырос в доме епископа, который оказал ему много благодеяний. Но даже в то время он проявил уже свой необузданный, кровожадный характер и был изгнан его преосвященством за убийство одного из его слуг. С тех пор он сделался непримиримым врагом доброго епископа, а в настоящее время — говорю это с глубокой скорбью — точит зубы, чтобы ему отомстить.
— Так, значит, вы считаете положение его преосвященства опасным? — спросил Квентин с тревогой.
126
Францисканцы — монахи ордена св. Франциска (монахи делились на братства или ордена); францисканцы называли себя нищенствующими, но на самом деле их монастыри были весьма богатыми.
127
Вавилон и Тир — богатые и могущественные города древнего Востока. Вавилон не раз подвергался во время войн разрушению, Тир был разрушен Александром Македонским.
128
Блаженны миротворцы (лат.).
129
Даже в спальне (лат.).
130
Камень преткновения (лат.).
131
Наложил руки на помазанников божьих (лат.).
132
Чтобы ты не замышлял зла своему другу, когда тот тебе доверяет (лат.).
133
Коли не заплатишь, сожгу ваш монастырь.
134
Да погибнет бесчестный, аминь, аминь, анафема! (лат.)
135
Меч — символ светской власти, ключи — символ духовной власти (епископ Льежский был одновременно и сеньором Льежа и его духовным владыкой). Апостол Петр считался основателем римской церкви, первым папой. На католических иконах его изображали с двумя ключами в руках, символизирующими власть церкви определять и прощать грехи.