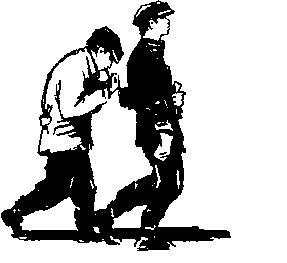
В «Огоньке» мне как-то попались воспоминания о Куприне. В конце приводились десять советов знаменитого творца «Поединка» начинающим литераторам, и я тут же перенес их в свою записную книжку. (Ведь каждый писатель должен иметь свою записную книжку, какой же он иначе писатель?) В ближайшее воскресенье я отправился на Холодную гору к своему новому другу и соседу по парте Алексею Бабенко.
Жил он в переулке недалеко от Озарянской церкви. У Алексея сидел наш одноклассник Венька Шлычкин — приземистый паренек с широким бабьим лицом и плоскими, зачесанными назад волосами цвета перепрелой соломы. Дом его стоял напротив бабенковского: окно в окно.
— Вот, коллеги, — заговорил я, потрясая перед товарищами записной книжкой. — Куприн учит: писателю все надо испытать. Сам он рос, как и я, в приюте, был офицером, зубным врачом, бродячим актером, грузил арбузы на Днепре. Видали? Пешком обошел Россию. Прямо так и советует: «Все испытай. Если можешь, то роди». Поняли?
— Н-да, — нерешительно протянул Алексей Бабенко. Это был очень сильный, широкоплечий парень, с зелеными, косо поставленными глазами, на редкость немногословный. Врать Алексей совсем не умел и, если нельзя было сказать правду, отмалчивался.
С месяц назад я по секрету сообщил ему, что изучаю жизнь и хочу стать писателем. Алексей очень сочувственно отнесся к моим мечтам и, в свою очередь, признался, что его цель — пробиться в машинисты и водить локомотив. К Веньке Шлычкину мы оба относились с холодком, но он, ограниченный, как все самовлюбленные люди, считал, что мы очень ценим его дружбу. Ему я тоже намекнул, что сочиняю рассказ. Шлычкин часто посещал оперетку, знал имена всех молодых актрис и по моему примеру тоже собирался стать писателем. Между прочим, лоб у него был высокий, куда больше моего, и это вынудило меня заверить Веньку, что из него наверняка выйдет «автор».
— Здорово Куприн сказанул! — с важностью воскликнул Венька и пригладил плоские волосы. — Только как же это, к примеру, мы с вами, хлопцы, можем родить?
— А вот надо суметь, если хочешь заделаться писателем, — ответил я и подчеркнул слово «надо».
Отец Шлычкина был видный начальник в Управлении южных железных дорог. Венька в праздники носил модные брюки дудочкой — широкие у пояса и узкие книзу, желтые остроносые ботинки «джимми», похожие на утюги, клетчатую кепку и начал смазывать волосы бриолином. Себя он считал неотразимым кавалером и усиленно ухаживал за бабами — так пренебрежительно называли мы девушек, считая это признаком мужественности.
— Послушайте, братцы, — заговорил Венька, тут же забыв о купринских советах, — пойдемте нынче вечером погуляем на Сумочку[4]. У моей бабы есть две подружки; с ней в девятилетке учатся. Хотите познакомлю? Витька, я уж одной говорил за тебя, что все книжки на свете перечитал и скоро собираешься рассказ издать. Дунули?
Кровь ударила мне в голову. С каждым годом меня все больше тянуло к девушкам, и я все сильнее их боялся. Как подойти к этим прелестным, загадочным и насмешливым существам? Что надо сделать: заговорить? Или просто поздороваться за руку? А вдруг я не понравлюсь девушке, и она расхохочется мне в лицо? Как это Венька Шлычкин осмеливается свободно брать их под руку, болтать с покровительственным видом? Вот если бы какая-нибудь девушка сама стала за мной ухаживать.
— И что же ответила та баба… подружка? — с наигранным безразличием спросил я у Веньки.
— Смеется. «Приведите его до нас». Айда? Ты кудрявый, она на тебя упадет.
Слово «упадет» на языке нашей городской окраины означало, что я ей понравлюсь. Руки у меня вспотели, особенно лестно было прийти к девушкам как «писатель», небось встретили бы с уважением. Но меня с новой силой охватила робость, и, чтобы скрыть ее, я принял суровый вид.
— Нет, Венька. Я у одного философа мысль прочитал: человек, который хочет вступить в писатели, не должен жениться. Понял? Надо свою жизнь посвятить искусству и больше ничему. Заделаться богемщиком.
— Как ты сказал, как? Богемщиком? — спросил Венька. Он всегда интересовался иностранными словами, которые я откапывал, и, видимо, тоже старался их запомнить.
— А что, хлопцы, правильную мысль философ придумал, — решительно поддержал меня Алексей. — Нам еще рано гулять с бабами. Сперва надо профессию взять в руки. И вообще главное в жизни — это дружба с товарищем.
— Эх вы, лопухи, — засмеялся Венька. — Да философы так говорят потому, что все они старики и вообще с-под угла мешком прибитые. Ни-че-го-о: все одно скоро начнете за юбочками бегать!
Обычно так заканчивались наши споры: мы с Алексеем объединялись против Веньки, но побежденным он себя никогда не признавал, и лишь его желтоватые беззастенчивые глаза принимали снисходительное выражение.
В фабзавуче мы прошли опиловку, научились рубить зубилом, и каждому из нас предложили выбрать профессию, какая ему нравится. Мне хотелось чего-то фундаментального, и я записался в литейщики. Одно название «горячий цех» уже звучало необычно. Есть ли на свете дело важнее литейного? Все, от многосильного паровоза и кончая швейной иголкой, отлито литейщиками. Не дадут литье — весь завод остановится: что будут обтачивать токари, слесари, клепать котельщики?
Однако нас в первый же день постигло горькое разочарование. Все мы мечтали попасть на ответственный участок — к мощной, огнедышащей вагранке идя к раскаленным чугунным опокам, а нас загнали в темный угол делать «шишки» формовать маленькие детали из литейной земли и относить в сушительную печь.
И все же теперь мы считали себя настоящими работягами.
Литейщиков можно отличить по задымленной спецовке и особенно по черному носу — и наши ребята то и дело хватались грязными пальцами за нос, втихомолку мазали щеки. В поселке меня стали дразнить «копченый», и если бы только ребята знали, как я этим гордился! Все мы переняли походку горнового мастера, ходили опустив плечи, слегка раскорячась и загребая ногами.
Занятия в классе я посещал менее охотно: что здесь интересного для писателя? Девочек у нас было очень мало, и за ними сразу стали ухлестывать Венька Шлычкин, другие ребята. Лишь Алексей и я не подходили к одноклассницам. Зато с одной из них я тайком не спускал глаз. Звали ее Клава Овсяникова. Она была довольно толстая, с легкими веснушками вокруг носа, с бледными губами. Обаяние ее заключалось в прирожденном кокетстве, необыкновенной живости, проворстве. Клава и минуты не могла посидеть на месте и, казалось, совсем не знала, что такое уныние. Ее небольшие глаза всегда весело блестели из-под густой подстриженной челочки, темные, с красноватой ржавчинкой волосы были часто растрепаны; то и дело слышался ее громкий, несколько горделивый смех. На ухаживания записных кавалеров Клава не обращала никакого внимания, зато сама несколько раз подбегала к нашей парте, останавливала меня в коридоре, расспрашивала, что я читаю, с кем дружу.
Как-то я отвечал у доски по технологии металлов, срезался и, криво улыбнувшись, поплелся на свое место. Раскрыл книгу Куприна, сделал вид, будто слушаю объяснение учителя, стал читать.
В перемену я не вышел в коридор: стыдно было глядеть на товарищей. Алексей Бабенко молча посочувствовал мне и тоже остался за партой, начал разбирать тетрадки. Внезапно чья-то рука легла на мою книжку; я сердито поднял голову и радостно вспыхнул. Передо мной стояла раскрасневшаяся Клава Овсяникова, смеясь, спрашивала:
— Провалился?
— Здорово мне нужна технология! — ответил я, делая вид, будто мне наплевать на полученный «неуд». — Она, что ли, главное в фабзавуче? Работа в литейном — вот что главное.
— Чудак; не будешь учить технологию металлов — не переведут во второй класс. Что станешь делать?
— Я-то? Найду-у!
Я загадочно приосанился: мол, имею на примете дело поважнее фабзавуча. Клава легко перевела дыхание — она только что бегала по коридору, — с любопытством спросила:
4
Сумочка, Сумская — одна из центральных улиц Харькова.