Александр Бахвалов
Нежность к ревущему зверю
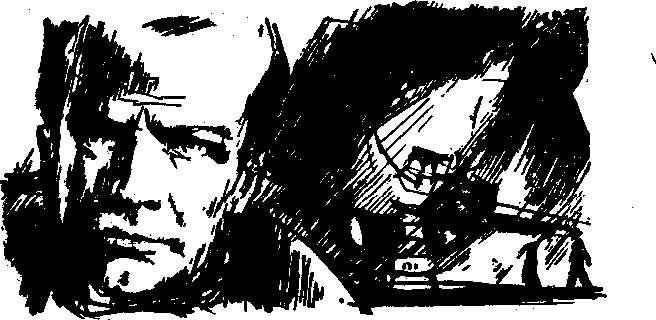
1
Если на ветровом стекле не вспыхивают, колюче мерцая огненными ежами, фары встречных автомобилей, путь от города до аэродрома становится отдыхом. Утекающая под капот «Волги» дорога, едва видимая глухомань низкорослого осинника по сторонам и пчелиное жужжание работяги-движка настраивают так, словно все, что связывает тебя с миром, осталось позади. Ты – нигде. Между тем, что было, и тем, что будет.
Лютров вспоминает попутчиков, которых нередко сажает к себе в машину по дороге на аэродром. Они тоже проникаются состоянием отрешенности, становятся откровеннее. Может быть, существует некое непознанное свойство скорости, влияющее на расположение людей друг к другу? Или человек, уединившись под крышей кузова с себе подобным, как в исповедальне, испытывает потребность довериться в надежде быть наконец понятым?.. Впрочем, благодарность болтлива, и тут, как и везде, истина проще ее поисков…
На этот раз попутчиков не будет, он слишком поздно выехал из дому. Так что исповедовать некого. А жаль… Ему нравился говор этой области, язык старожилов дальних деревень, восхищала нетронутая давность одного из самых выразительных русских диалектов. Нигде больше не говорят с такой напевной интонацией, такими речитативно закругленными фразами. Хоть в шапку собирай. Как-то он сказал об этом старику, попросившемуся подвезти к попутной деревушке Сутоково.
– Верно, сынок, – весело-важно согласился дед, – наш мужик лепит слово ловчее других, душой, значит, речист… Иностранное? Да как его приладишь? Оно ежели там к политике али к делу какому, а в разговоре промеж себя не годится, к родной речи нейдет… Ино не наше слово чудинкой ли, пятнышком каким схожим пристанет к языку и загуляет в народе вроде бы присказкой, да и то в новину, спервоначалу, ить все одно приблудный пес, не ращений… Другое дело – обозвать кого таким-то словом, это да. Чего оно там значит, хрен с ним, важно, как его в деревне обозначили да к кому присобачили…
Занятный был дед. Борода ухоженная, шелковистая, глаза лукавят, на щеке кокетливой соринкой девичья родинка… И поговорить не дурак. За полчаса Лютров заочно перезнакомился со всей стариковской родней. На прощанье, когда Лютров остановил машину у огромного щита с надписью «Берегите птиц и зверей», старик сказал:
– Славно докатили!.. Сколько те за проезд?
– Будете богаче меня, тогда и заплатите.
– Ишь ты, богаче… Не дождешься, брат…
Придерживая приоткрытую дверцу, он спустил одну ногу на землю, но не вышел, а повернулся к Лютрову.
– Шут тя знает, кто ты… Наружностью обнакновенный, а есть в тебе какое-то угодье, потому как возле тебя легче дышать… Да. Ну, спасибо, уважил…
Лютрову была приятна похвала старика, но он и не подозревал, что тот сумел подметить в нем главное.
Когда человек, подобно Лютрову, велик ростом, остальные приметы внешнего в нем как бы стушевываются, отступают на второй план, и оттого не всякий случайный знакомый успевал заметить, что темно-серые в русых ресницах глаза Лютрова очень ясно выражают, что он не умеет походя, за компанию, следовать чужим настроениям, улыбаться из одного приличия или кивать, не уразумев толком, с чем соглашается; что он совсем непохож на тех, кто сопровождает ужимками и высказываемую мысль, и ощущение, и всякие иные подлинные и мнимые переживания; что привлекательность его не слишком подвижного спокойного лица требует разгадки. Но кто наблюдал, с каким постигающим вниманием разглядывал людей или слушал их Лютров, обнаруживали в нем ничем не обеспокоенную цельность его внутренней жизни, очень привлекательную черту для людей, не уверенных в себе, робких, слабых, неуравновешенных.
На дороге ни души, поздно. Выехал он почти в десять. И в пути?.. Да, без малого полтора часа. Осталось чуть больше половины. Это не аэродром летной базы, до которого из Энска рукой подать…
Ребята теперь в гостинице. И спят, наверно, если не играют в преферанс. Впрочем, штурман Саетгиреев наверняка спит. Он или спит, или скучает по своей жене-музыкантше. Если двигателисты не продлят ресурс своим изделиям на С-44, то завтра они сделают последний полет перед заменой всех четырех двигателей, и тогда Саетгиреев сможет погостить недельку-другую дома.
Полеты на этой большой машине, связанные с освоением новых навигационных систем, длятся весь апрель, и почти все это время больше всех занят штурман. Через два-три полета включают в экипаж нового стажера-оператора, чтобы Саетгиреев ознакомил его с навигационным комплексом. Если не считать нескольких опытных агрегатов, установленных на двигателях, да хозяйства Саетгиреева, то С-44 можно считать обычной серийной машиной, и для экипажа это скорее рейсовые, чем испытательные полеты. Лютров со вторым летчиком, подменяя друг друга, всегда находят время отдохнуть, откинувшись на сиденье катапультного кресла. Впрочем, завтра и Саетгирееву будет полегче, ему поставили новый локатор, с которым нужно как следует освоиться, одному, без стажера.
Междугородная магистраль протянется еще километров сто двадцать, а затем нужно съезжать на узкую бетонку, где уж совсем никого не встретишь до самого приаэродромного городка, да и там в эту пору одни кошки да собаки.
Но еще задолго до съезда на пути Лютрова появится холмистое возвышение в ста метрах от автострады, приметное желтой раной песчаного карьера. По ту сторону холма, на отлогом спуске к реке, немногим больше трех месяцев назад разбился опытный самолет С-14…
Он приспустил окошко дверцы. Дохнуло по-летнему теплой ночью, прелыми запахами леса. При слабом свете приборных ламп вишневые чехлы сидений кажутся черными. Тускло лоснятся брошенная рядом кожаная куртка. Где-то под ней должны быть сигареты. Лютров, не глядя, нащупывает скользкую пачку.
Когда сошел снег, Лютров второй раз побывал на месте катастрофы С-14 с номером 7 на фюзеляже. Машину так и называли «семеркой».
За все годы работы на фирме он не помнил катастрофы с таким исходом, хоть никогда за всю историю авиации не создавалось столько экспериментальных машин, как в это время, никогда столь многое не зависело от работы летчиков-испытателей.
Никто из экипажа не успел покинуть самолет, да и не мог. Погибли все четверо: Георгий Димов, сильный, стройный, как гимнаст; Саша Миронов, рыжеголовый, ото лба до плеч усеянный веснушками, не покидавшими его со школьных лет, как и незамутненная доверчивость к людям, детская отзывчивость на веселье; Сергей Санин, невозмутимо добродушный, с выразительной усмешкой большого подвижного рта, и Миша Терской, стеснительный юноша, красневший от анекдотов своего коллеги Кости Карауша и даже когда ему на работу звонила мама, хорошо воспитанная и совсем еще молодая женщина… Летчики, штурман, радист.
Обходя по краю глубокую ямину, Лютров ступал по темным плешинам обгоревшей земли и живо вспоминал бесноватые лохмы огня, хлопающего на ветру рваными полотнищами; приглаженный метелью снег, усыпанный сажей в направлении ветра; стекающий в овраг керосин, слизавший сугробы с легкостью кипящей лавы, и в дыму над ним цепкие шлейфы пламени.
Все четверо… Так ему и сказали, когда он выбрался из кабины С 04 и, как был в высотном костюме, поднялся в диспетчерскую узнать, почему запретили вылет. Он глядел на лица ребят и чувствовал, как сознание обволакивает ощущение пустоты и нереальности. Он не только не верил услышанному, но и не понимал, он оглох, как от собственной смерти. «Нет, там все не так, они не знают и говорят первое, что услышали… Сейчас, сейчас все изменится, обернется по-другому, нужно только переждать, как это бывало в детском сне, и тогда все разом сгинет…»
Над аэродромом нависла тишина, и в этой тишине торопливо, один за другим стартовали вертолеты. Неуклюжее на вид помахивание лопастей медлительных машин рождало мысли о настороженности чрева механизмов к ошибкам людей.