Я уже приводил длинный суицидный мартиролог литераторов-антифашистов. Одни покончили с собой, чтобы избежать неминуемого ареста — как это сделал Эгон Фридель (1878–1938), выбросившийся из окна своей венской квартиры, когда на лестнице уже гремели эсэсовские сапоги. Другие убили себя в знак протеста против насилия и массового безумия — как Меннотер Браак (1902–1940), которого называли «совестью голландской литературы». Он принял яд в тот самый день, когда немецкие войска вторглись в Нидерланды.
Среди наших соотечественников нельзя не вспомнить поэта Николая Дементьева (1907–1935). Комсомолец-энтузиаст, которому Багрицкий адресовал свое знаменитое стихотворение («Где нам столковаться! Вы — другой народ…»), не выдержал столкновения романтических социальных фантазий с грубой реальностью чекистского modus operandi. Согласно широко распространенной версии, Дементьев выбросился из окна, нежелая становиться доносчиком.

Спасительное окно, мистический аварийный выход в иной мир, где нет предательства и страха, выручило многих, кому умереть было легче, чем капитулировать. Недаром в окна следственных кабинетов научились вставлять особенные непробиваемые стекла. Но в больницах окна обыкновенные, чем и воспользовался Галактион Табидзе. Старый поэт упал на асфальт, прямо под ноги мучителям, которые требовали, чтобы он подписал письмо, клеймящее Пастернака.
В самый глухой период брежневской эпохи, сломленный отступничеством единомышленников — как раз шел показательный процесс, где каялись бывшие единомышленники, — покончил с собой поэт-правозащитник Илья Габай (1935–1973). Строки его последней поэмы проникнуты отчаянием и безнадежностью.
Если худо и нету сил, можно умереть. Но играть дьяволом в поддавки нельзя.
Тут спектр куда как разнообразней.
Были такие, кого, подобно Маяковскому и Фадееву, политическая ангажированность завела в жизненный и творческий тупик.
Были и просто поставившие не на ту карту, погибшие вместе с силой или партией, к которой примкнули. Философ Исократ (436–338 до н. э.) жил в Афинах, но был сторонником македонского царя Филиппа. Когда македонцы и афиняне, не придя к соглашению, вступили в войну, престарелому Исократу по античной логике полагалось умереть, что он и сделал.
Французский драматург Себастьен Шамфор (1741–1794) не поладил с соратниками по якобинской партии и, оказавшись перед угрозой ареста, не захотел умирать на гильотине — избрал добровольную смерть свободного человека.
Шамфора, автора знаменитого лозунга «Мир хижинам, война дворцам», не очень жалко — в конце концов, поднявший меч обычно своей смертью не умирает. Однако история смерти другого республиканца, прекраснодушного маркиза Кондорсе (1743–1794), поистине грустна и притчеобразна. Блестящий энциклопедист и ученый, еще в ранней молодости принятый в члены Академии, он был за свободу, равенство и братство, но против террора и кровопролития. После поражения умеренной жирондистской партии, к которой принадлежал Кондорсе, ему пришлось скрываться от полиции. Под конец маркиз прятался в каменоломнях, отощал и дошел до последней крайности, но не расстался с томиком Гомера. Из-за него и погиб. Местные патриоты распознали по ученой книжке «аристократа» и торжественно препроводили в тюрьму, где философу-маркизу оставалось только отравиться.
И опять хочется обратить внимание читателя на символическое значение способа смерти, который выбирает самоубийца. Потерпевшие поражение революционные, партийные и государственные литераторы почему-то чаще всего отдают предпочтение яду. Весной 1945 года среди писателей-коллаборационистов прокатилась целая волна отравлений: Бёррис фон Мюнхаузен в Германии, Йозеф Вайнхебер в Австрии, Пьер Дрие ла Рошель во Франции; были и другие, менее именитые. Может быть, горечь яда лучше всего сочетается с горечью поражения? Или с горьким осадком худшего из возможных для писателя злоупотреблений — употребления во зло своего дара.
Дрие ла Рошель перед смертью написал в дневнике: «Писатель должен понимать, что отвечает за свои слова жизнью».
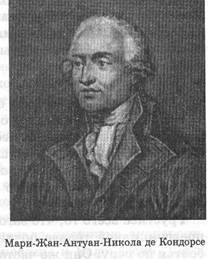
Еще одно роковое заблуждение, жертвой которого с легкостью становится творческий человек, — возведение в ранг золота того, что ярко блестит. Сколько было их, радужных мотыльков, из честолюбия или просто любопытства слишком приблизившихся к огню Большой Власти и сгоревших в нем дотла.
Хрестоматийный пример — царствование Нерона, покровителя искусств и поэтов. Об опале и самоубийстве Сенеки, бывшего наставника и чуть ли не соправителя капризного кесаря, я уже писал в разделе «Философия». Племянник Сенеки 25-летний поэт Марк Анней Лукан утратил расположение Нерона из-за того, что писал слишком хорошие стихи — у императора так не получалось. Певец стоического самоубийства, в жизни Лукан проявил себя человеком малодушным. Надеясь заслужить пощаду, он донес на собственную мать, но и это его не спасло — пришлось-таки вскрыть себе вены.
Через год был вынужден умереть еще один великий римлянин, опальный фаворит Гай Петроний, также имевший неосторожность вызвать зависть Нерона, да еще и участвовавший в придворных интригах. «Арбитр изяществ», в отличие от Лукана, ушел из жизни с подобающей элегантностью: во время пиршества, под музыку и песнопения, он по капле выпустил себе кровь и постепенно погрузился в сон.
Это те самые щепки, которые летели во все стороны, когда злая власть валила лес Великих Свершений. Особенно много писателей — как репрессированных, так и доведенных до самоубийства — на счету масштабного и длительного исторического эксперимента, проведенного в нашей стране.
Грустнее всего то, что загонщиками в предарестной и предсуицидной травле почти во всех случаях были собратья по перу. Они же часто выступали и в роли первоначальных доносчиков.
В годы, предшествовавшие массовым чисткам, обходилось без прямого участия государственной машины, которую эффективно подменяли рапповские и лефовские «проработки».
Андрею Соболю (1888–1926) левая критика вменяла в вину недостаток оптимизма и рефлексию. Когда писатель поступил и вовсе пессимистично — застрелился, — лефовский журнал вместо эпитафии написал, что Соболь «ушел в пассивное созерцание».
Комсомольский вождь Виктор Дмитриев (1906–1930) неосторожно подпал под влияние Юрия Олеши и был разоблачен товарищами по РАППу. Он покончил с собой после того, как его исключили из рядов Ассоциации и признали «идеологически чуждым».
Леонид Добычин (1896–1936) держался в стороне от литературно-политических свар и стал мишенью инспирированной сверху кампании по наведению страха на творческую интеллигенцию в общем-то по случайности. Нужен был козел отпущения, и писательские функционеры выбрали человека, который не умел оправдываться и каяться. После собрания, на котором его критиковали за «объективизм» и «политическую близорукость», Добычин раздал долги, написал письмо («Меня не ищите, я отправляюсь в дальние края») и бесследно исчез. Хотя тела не нашли, люди, хорошо знавшие Добычина, были совершенно уверены, что он не скрылся, а именно покончил с собой. «Его самоубийство, — пишет В. Каверин, — похоже на японское харакири, когда униженный вспарывает себе живот мечом, если нет другой возможности сохранить свою честь».