И наоборот: лишь тот, кто не бережет своей души, может стать настоящим творцом. Во всяком случае, настоящим писателем. Впрочем, «ненастоящих» писателей в «Энциклопедии литературицида» вы обнаружите немного, ибо они мало кому интересны, и потомки быстро их забывают.
Разумеется, среди литераторов полным-полно неврастеников. Вероятно, даже большинство. В судьбе многих писателей-самоубийц психическое нездоровье сыграло свою зловещую роль, подготовив почву для трагического финала. Но в этой главе речь пойдет не об эксцентричных, неуравновешенных или истеричных писателях, не сумевших совладать с депрессией, а о тех страшных примерах полного, всеохватного безумия, которое поглощает душу без остатка, вытесняет все прочие черты личности и становится главной причиной самоубийства. Что здесь отправной пункт, а что следствие — Бог весть. То ли творческий дар становится порождением психической аномалии, причудливым цветком, расцветшим на патологической почве; то ли безумие обращается расплатой за чрезмерную творческую вибрацию души.
Самые страшные самоубийства происходят в так называемом состоянии раптуса, острого эмоционального состояния, выливающегося во взрывной суицидальный импульс, когда под воздействием некоей болезненной идеи жизнь становится мучительно невыносимой. И тогда безумец уничтожает себя с мстительной жестокостью. Путем самокастрации, как сумасшедший французский поэт Арман Барте (1820–1874). Проглотив железный ключ от сундука, в котором хранились рукописи, — как другой французский поэт, Никола Жильбер (1750–1780). Или застрелившись возле писсуаров, как аргентинский поэт Франсиско Мерино (1904–1928).
Писатель, даже сходя с ума, остается верен себе и записывает свои ощущения — иногда в тщетной попытке удержать ускользающий рассудок, как Лозина-Лозинский; а бывает, что и в предостережение, как Гаршин.

На Алексея Лозину-Лозинского (1886–1916) последний, предсмертный приступ безумия навалился так стремительно, что писатель успел накарябать лишь несколько расползающихся строчек. В конце почерк становится трудночитаемым: «…Я живу безумием. У меня холодеют ноги; чтоб не сойти с ума — я пишу. Слабеют руки. Я умираю. Молчи. Теперь я уверен, что меня не погребут. Погребут, а не похоронят. Я сластена, я осьминог! Я люблю свое безумие. Я хохочу в темный мрак — ха-ха-ха! Мне не стыдно. Я всем отдам свое безумие напоказ! В газету! (Холодеют руки)». Дальше будет смертельная доза морфия и бесстрастная, уже без судорожных «ха-ха-ха», запись своих предсмертных ощущений. Всеволод Гаршин (1855–1888) в промежутке между периодами помрачения написал пугающе красивый рассказ «Красный цветок», в котором описал процесс распада сознания, увиденный изнутри.
Пациенту сумасшедшего дома представляется, что цветок, растущий в больничном саду, является средоточием всего мирового Зла. Борьба с цветком требует неимоверной концентрации духовных и физических сил, преодоления массы реальных и воображаемых препятствий. Но больной считает себя спасителем человечества, на которого возложена великая, ему одному понятная миссия. Он жертвует собой во имя Добра. Гаршин писал о самом себе — его тоже одолевали видения подобного рода. Первый приступ психической болезни он перенес в семнадцать лет и впоследствии рассказывал об этом так: «Однажды разыгралась страшная гроза. Мне казалось, что буря снесет весь дом, в котором я тогда жил. И вот, чтобы этому воспрепятствовать, я открыл окно, — моя комната находилась в верхнем этаже, — взял палку и приложил один ее конец к крыше, а другой — к своей груди, чтобы мое тело образовало громоотвод и, таким образом, спасло все здание со всеми его обитателями от гибели». Что ж, благородный человек благороден даже в безумии.
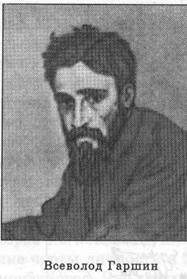
Сумасшествие играло с Гаршиным в кошки-мышки: то прижмет к земле, то выпустит погулять — доучиться в университете, отправиться добровольцем на Турецкую войну, стать известным писателем, обзавестись семьей. Потом прыжок, взмах когтистой лапы — и снова смирительная рубаха, зарешеченное окно скорбного дома.
Это был обреченный человек. Наследственностью — взбалмошная мать, у отца явные психические отклонения, старший брат застрелился. Обнаженностью нервов — происходящие в мире жесткости и злодеяния воспринимал как личную трагедию. Крестом писательства — по собственному признанию, оно подтачивало его душевные силы и сводило с ума: «Хорошо или нехорошо выходило написанное, это вопрос посторонний; но что я писал в самом деле одними своими несчастными нервами и что каждая буква стоила мне капли крови, то это, право, не будет преувеличением» (из письма другу за 3 месяца до самоубийства). Предсмертный приступ был особенно тяжел — бессонница, бред, лихорадочное бормотание непонятных слов.
Выбежал из квартиры, бросился в лестничный пролет. Сильно расшибся, но умер не сразу, а только через пять дней. Все повторял: «Так мне и нужно, так мне и нужно».
Если Гаршин явно совершил самоубийство в состоянии раптуса, то американская писательница и поэтесса Сильвия Плат (1932–1963) использовала суицидную ситуацию как средство борьбы с подступающим безумием. В своем знаменитом романе «Колба» она детально описала один из приступов заболевания с попыткой самоубийства и последующим выздоровлением. Кризис происходил с периодичностью в десять лет, и каждый раз, намеренно ставя свою жизнь под угрозу, но в то же время оставляя и шанс на спасение, Плат «обманывала» безумие. Избежав смерти, она переходила к новому рождению и новой творческой фазе. Плат писала:
И еще:
Первый раз, в ранней юности, Плат приняла снотворное и спряталась в подвале. Ее долго искали, нашли и вернули к жизни. Во второй раз она вывернула руль на автостраде, врезалась в ограждение и снова чудом осталась жива. В третий раз ей, очевидно, не очень-то хотелось умирать: она знала, что к ней должны прийти и вовремя ее обнаружить — перед тем, как сунуть голову в духовку, положила на видное место бумажку с телефоном своего врача. Но из-за рокового стечения обстоятельств ее нашли слишком поздно. У Сильвии Плат, в отличие от кошки, оказалось не девять смертей, а только три.
Безумие пишущего человека — это совершенно особый род сумасшествия. Очень легко из одной выдуманной реальности, литературной, перенестись в другую, еще более иллюзорную — психопатологическую. При этом в больной голове писателя все три реальности скручиваются в один перепутанный клубок, так что и нам, читателям, бывает трудно разобраться, где здесь правда, где художественный вымысел, а где бред.
Гаршин жаловался, что в больнице ему все льют по капле на голову холодную воду. То ли правда лили, следуя допотопной психиатрической гипотезе, то ли бедному Всеволоду Михайловичу примерещилось из «Записок сумасшедшего» — запись от 349 февраля: «Боже, что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я им сделал?» Эта проклятая книга словно преследует всех скорбных духом литераторов. Начиная с самого Гоголя. «Нет, я больше не имею сил терпеть, — пишет в конце повести Поприщин. — Боже! Что они делают со мной!.. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится передо мною… Матушка, спаси своего больного сына!» Сравните со строками из письма, которое написал матери через 18 лет после «Записок сумасшедшего» морящий себя голодом Гоголь: «Думал я, что всегда буду трудиться, а пришли недуги — отказала голова… Бедная моя голова! Доктора говорят, что надо оставить ее в покое… Молитесь обо мне, добрейшая моя матушка». Накануне самоубийства о Гоголе думает больной Акутагава: «Он вспомнил, что Гоголь тоже умер безумным, и неотвратимо почувствовал какую-то силу, которая поработила их обоих» («Жизнь идиота»). Да и последние строки новеллы Акутагавы «Зубчатые колеса», в которой с медицинской дотошностью описан процесс нисхождения в ад безумия, звучат совсем по-поприщински: «Писать дальше у меня нет сил. Жить в таком душевном состоянии — невыразимая мука. Неужели не найдется никого, кто бы потихоньку задушил меня, пока я сплю?»