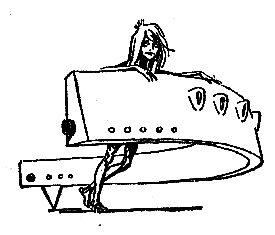— Почему вы можете, а я не могу?
— Этого мы еще толком не знаем, — признаюсь я и осторожно добавляю: — Есть предположение, что ты все-таки не совсем человек…
— Тогда что же такое человек? — немедленно осведомляется он. — Что такое человек совсем?
Я очень неважно представляю себе, как можно ответить на такой вопрос, и обещаю рассказать ему об этом в следующую встречу. Он сделал из меня настоящего энциклопедиста. Иногда я круглые сутки глотаю и перевариваю информацию. Главный Информаторий работает на меня, крупнейшие специалисты по самым различным отраслям знания работают на меня, я обладаю правом в любую минуту связаться с любым из них и просить разъяснений — относительно моделирования П-абстракций, обмена веществ у абиссальных форм жизни, методики построения шахматных этюдов…
— У тебя усталый вид, — сочувственно замечает Малыш. — Ты устал?
— Ничего, — говорю я. — Терпеть можно.
— Странно, что ты устаешь, — сообщает он задумчиво. — Я почему-то никогда не устаю. А что такое, собственно, усталость?
Я набираю в грудь побольше воздуху и принимаюсь объяснять ему, что такое усталость. Не переставая слушать, он раскладывает перед собою камешки, которые обработал для него старый добрый Том, придав им форму кубиков, шаров, параллелепипедов, конусов и более сложных фигур. К моменту, когда я заканчиваю, перед Малышом вырастает сложнейшее сооружение, решительно ни на что не похожее, но тем не менее в своем роде гармоническое и странно осмысленное.
— Ты рассказал хорошо, — говорит Малыш. — Скажи мне, наша беседа записывается?
— Да, конечно.
— Изображение хорошее, четкое? Изображение!
— Как всегда.
— Тогда пусть эту фигуру посмотрит дед. Посмотри, дед: узлы остывания здесь, здесь и здесь…
Дед Малыша, Павел Александрович Семенов, работает в области реализации абстракций в смысле Парсиваля. Он довольно рядовой ученый, но большой эрудит, и Малыш поддерживает с ним постоянную творческую связь. Павел Александрович говорил мне, что Малыш мыслит зачастую наивно, но всегда оригинально, и некоторые из его построений представляют определенный интерес для теории Парсиваля.
— Обязательно, — говорю я. — Непременно передам. Сегодня же.
— А может быть, это пустяки, — вдруг заявляет Малыш и одним движением сметает всю свою конструкцию. — Что сейчас делает Лева? — спрашивает он.
Лева — это старший инженер базы, большой шутник и анекдотчик. Когда Лева беседует с Малышом, околопланетный эфир заполняется хохотом и азартными визгами, а я испытываю что-то вроде ревности. Малыш очень любит Леву и обязательно каждый раз спрашивает о нем. Иногда он спрашивает и о Вандерхузе, и тогда чувствуется, что сладостная тайна бакенбард до сих пор осталась для него неразгаданной и острой. Раз или два он спросил о Комове, и мне пришлось объяснить ему, что такое проект «Ковчег-2», а также зачем этому проекту нужен ксенопсихолог. А вот о Майке он не спросил ни разу. Когда я сам попытался заговорить о ней, когда попытался объяснить, что Майка, если и обманывала, то для его же, Малыша, пользы, что из нас четверых именно Майка первая поняла, как тяжело Малышу и как он нуждается в помощи, — когда я попытался все это ему растолковать, он просто встал и ушел. И точно так же он встал и ушел, когда я однажды, к слову, принялся объяснять ему, что такое ложь…
— Лева спит, — говорю я. — У нас тут сейчас ночь, вернее, ночное время бортовых суток.
— Значит, ты тоже спал? Я тебя опять разбудил?
— Это не страшно, — говорю я искренне. — Мне интереснее с тобою, чем спать.
— Нет. Ты иди и спи, — решительно распоряжается Малыш. — Странные мы все-таки существа. Обязательно нам нужно спать.
Это «мы» подобно бальзаму проливается на мое сердце. Впрочем, Малыш последнее время часто говорит «мы», и я уже понемножку начал привыкать.
— Иди спать, — повторяет Малыш. — Но только скажи мне сначала: пока ты спишь, никто не придет на этот берег?
— Никто, — говорю я, как обычно. — Можешь не беспокоиться.
— Это хорошо, — говорит он с удовлетворением. — Так ты спи, а я пойду поразмышляю.
— Конечно, иди, — говорю я.
— До свидания, — говорит Малыш.
— До свидания, — говорю я и отключаюсь.
Но я знаю, что будет дальше, и я не иду спать. Мне совершенно ясно, что сегодня я опять не высплюсь.
Он сидит в своей обычной позе, к которой я привык и которая уже не кажется мне мучительной. Некоторое время он всматривается в потухший экран во лбу старины Тома, потом поднимает глаза к небу, как будто надеется увидеть там, на двухсоткилометровой высоте, мою базу, состыкованную со спутником Странников, а за его спиной расстилается знакомый мне пейзаж запрещенной планеты Ковчег — песчаные дюны, шевелящаяся шапка тумана над горячей топью, хмурый хребет вдали, а над ним — тонкие длинные линии колоссальных, по-прежнему и, может быть, навсегда загадочных сооружений, словно гибкие, тревожно трепещущие антенны чудовищного насекомого.
Там у них сейчас весна, на кустах распустились большие, неожиданно яркие цветы, над дюнами струится теплый воздух. Малыш рассеянно озирается, пальцы его перебирают отшлифованные камешки. Он смотрит через плечо в сторону хребта, отворачивается и некоторое время сидит неподвижно, понурив голову. Потом, решившись, он протягивает руку прямо ко мне и нажимает клавишу вызова под самым носом у Тома.
— Здравствуй, Стась, — говорит он. — Ты уже поспал?
— Да, — отвечаю я. Мне смешно, хотя спать хочется ужасно.
— А хорошо было бы сейчас поиграть, Стась. Верно?
— Да, — говорю я. — Это было бы неплохо.
— Сверчок на печи, — говорит он и некоторое время молчит.
Я жду.
— Ладно, — бодро говорит Малыш. — Тогда давай опять побеседуем. Давай?
— Конечно, — говорю я. — Давай.