А потом ругается, потому что оба насквозь провоняли рыбой.
— Когда же это кончится? Вам обязательно их трогать? Сейчас же мойте руки! И как следует!
— Она сидит на больничном, — говорила моя мать. — Все образуется, даже не думайте об этом!
Ближе к вечеру мы забирались на дерево и ломали голову над тем, откуда взялось выражение «сидеть на больничном». Все подолгу молчали, и я успевала считать пробивавшиеся сквозь крону лучи.
Казалось несправедливым, что Гизела должна быть на больничном, Даниэль даже сказал:
— Если б я мог, я посадил бы маму на здравничный.
— И все бы стало как раньше, — отозвался Лукас. — Мама не валялась бы в постели, а снова костерила нас на чем свет стоит!
Даниэль отломил ветку и стал хлестать ею ствол дерева. На нас дождем посыпались листья.
— Хватит! — попросила я.
Но Даниэль не унимался.
— На-боль-нич-ном! — нервно смеялся он, отбивая такт. — На-боль-нич-ном! На-боль-нич-ном!
Слезы катились по его щекам, и я не знала, плачет он или смеется.
Восьмого мая на рапсе лопнули почки. Утром, когда мы шли в школу, все было как всегда: дымка над рвом, цапля на дереве, обагренный лучами восходящего солнца красный бук и повсюду вокруг матово-зеленое поле рапса.
У начальной школы стоял автобус.
— До скорого, — крикнул Лукас и помчался через школьный двор.
Мы с Даниэлем сели внутрь.
Уезжать мы могли бы и позже, но Гизела была против.
— Будете ходить вместе! И все тут! Один за всех, и все за одного!
И вообще-то так было даже лучше, потому что в следующий автобус всегда набивалось слишком много галдящих и суетящихся детей.
Даниэль молчал. С утра он был бледным и усталым. Сидел рядом со мной, смотрел в окно и, казалось, сны досматривал. Я понимала, что его лучше оставить в покое.
Автобус ехал мимо крестьянских дворов, живых изгородей, плакучих ив и конских пастбищ. Иногда на глаза попадались лисы, блуждавшие по полю в поисках косуль.
Обширные дворы располагались на большом расстоянии друг от друга, а у детей, что там жили, были двойные фамилии: Шульце-Хорн, или Шульце-Веттеринг, или Шульце-Эшенбах. Да и имена у них были непохожи на наши: Мария-Тереза Шульце-Хорн, Анна-София Шульце-Веттеринг, Хубертус Шульце-Эшенбах…
Хуторские дети постоянно враждовали с деревенскими, но к нам они не лезли. Мы-то были замковыми.
— Замковые дети — статья особая, — обмолвилась как-то раз Гизела. — Не забывайте об этом и ведите себя прилично! В гостях берут только один кусок торта и спрашивают, чем помочь. Зарубите себе это на носу!
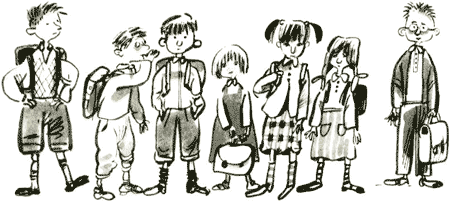
Отвесив Даниэлю подзатыльник, она добавила:
— А ты не стой все время как вкопанный! Бери пример с младшего брата! Прежде чем зайти в чужой дом, надо улыбнуться и поздороваться!
— Ну не будь с ним так строга, — успокаивала ее моя мать, положив руку Даниэлю на плечо. — Он просто немного стесняется, это пройдет.
Даниэль весь покраснел, а мне стало неловко за мать. Даниэль не стеснялся. Он был молчалив и говорил только то, что было действительно важно.
Взрослые вели себя так, словно знали нас как облупленных. А сами ничего не понимали.
Хуторские дети с нами не играли, потому что мы были замковыми, да и деревенские нас недолюбливали, потому что хуторские нас не задирали. Но мы об этом никому не говорили, особенно взрослым. Им все равно было невдомек. Нам вполне хватало нас троих.
Школьный автобус постепенно наполнялся. Мы сидели на своих постоянных местах, сразу за водителем, и Даниэль полусонно посматривал в окно. Неподалеку от двора Шульце-Веттеринг на обочине лежала мертвая кошка. Даниэль толкнул меня локтем:
— Видела?
Я кивнула.
— Если б она была моей, я бы завыл от горя! А эта смеется!
Он кивнул в направлении Анны-Софии. И правда — Анна-София Шульце-Веттеринг и Мария-Тереза прислонились друг к другу головами и над чем-то хихикали.
— Может, это не ее! — возразила я.
— Спорим?!
Даниэль отвернулся и снова уткнулся в окно.
Я знала, что он вне себя от злости, потому что очень хотел кошку, но Петер был непреклонен:
— Кончили разговор. У твоей матери аллергия на кошачью шерсть. И пока мать больна, ни одно животное не переступит порог моего дома! Тем более кошка!
Когда мы проехали двор Шульце-Эшенбахов, Даниэль вдруг сказал:
— Она лысеет.
— Кто лысеет?
— Мама.
Я вздрогнула.
— Смеешься?
— Я сам видел. Она берется за волосы, и они выпадают.
Волосы Гизелы — точно, как у Белоснежки: длинные, каштановые.

Раньше она всегда заплетала их в косу, которая прыгала на спине, когда Гизела бежала. Теперь же она все чаще носила платок, но я думала, это для красоты. Мамы часто модничают. У моей матери вот уже четыре недели рыжие волосы, огненно-рыжие, выглядит она как актер из рекламы кетчупа. Я бы так на улицу не вышла, но что есть, то есть.
— Да ладно! — сказала я. — Хорош придумывать!
— Я сам видел, — повторил Даниэль и надолго замолчал.
Когда мы в тот день возвращались из школы, почки на рапсе уже лопнули. Мы еще издали увидели, как вспыхнуло поле.
Для нас это были самые чудесные цвета: рапсовожелтый, буково-красный, а над ними небесно-голубой.
— Смотришь и радуешься! — сказал как-то Лукас. И был прав.
Но сегодня все складывалось иначе, потому что я думала о волосах Гизелы и меня охватывал страх.
Мама стояла в кухне и гладила.
— Как школа?
— Отлично!
Мама рассмеялась. Мы играли в эту игру из года в год. Каждый день один и тот же вопрос. И один и тот же ответ.
Игра называлась «Как-школа-отлично». Мама говорила, что и бабушка ежедневно спрашивала о том же.
— В детстве я это ненавидела, — призналась мама.
— Так зачем же спрашиваешь?
— Потому что теперь я мама и все мамы это спрашивают! Она гладила, смеялась, и ее волосы переливались на солнце.
— Мама? А Гизела облысеет?
Мама вздрогнула. Отставила утюг в сторону.
— Кто это тебе сказал?
— Даниэль!
Мама опустилась на табуретку.
— Пойди-ка сюда, голубушка.
Я села рядом. Она достала сигарету из пачки, закурила и стала выпускать дым через нос. Я ждала, что она что-нибудь скажет, но она лишь сидела с серьезным лицом и лихорадочно затягивалась.
Стояла такая тишина, что слышно было, как тикают часы в гостиной. Муха жужжала у оконного стекла, и время от времени попыхивал паром утюг.
Мама откашлялась.
— Значит так, — сказала она. — Я тебе сейчас все объясню, только ты обещай мне, что ничего не скажешь Даниэлю. И тем более Лукасу.
Я сглотнула слюну и кивнула, сердце готово было выскочить из груди.
— У Гизелы рак, — тихо сказала мама. — Это очень тяжелая болезнь, голубушка. И врачи стараются вытравить ее из Гизелы разными ядами. Настолько сильными, что от них выпадают волосы. Настолько сильными, что Гизелу от них тошнит. Ей приходится лежать в постели.
— Мам, но она же поправится?
У мамы на глаза навернулись слезы.
— Надеюсь, — проговорила она. — И Гизела надеется. И врачи тоже надеются. Многие из тех, у кого была эта болезнь, выздоравливали. А волосы, — добавила мама, — отрастали снова. Только обещай мне, что не проговоришься мальчикам. Гизела не хочет, чтобы они знали, и Петер тоже! Понятно?
Я еще раз кивнула.
Есть «до» и есть «после», а еще есть «сейчас».
«Сейчас» была кухня с шипящим утюгом, плачущей мамой и солнечными лучами, падавшими сквозь окно на кухонный стол. «Сейчас» — та минута, когда я пожалела, что задала вопрос.
К чему твое вечное любопытство? Детям этого лучше не знать. Тебя это не касается. Вырастешь — узнаешь.