И он вместо ответа отделался пословицей:
— Не хвались отъездом, а хвались приездом! Во как!..
Тогда там, на мосту, когда он поджёг бикфордов шнур, его оглушило и отбросило в кусты. Счастье Ратикова, что место было болотистое — торф да мох. А не то разбился бы — и костей не собрать. А так, контуженный, пролежал в кустах больше двух суток — то приходил в себя, то снова терял сознание.
Иногда ему слышался голос Володи, а то жена громко звала: «Иди к столу, Матвей. Захолодало всё в тарелке. А газета твоя не остынет. Начитаешься». Потом вдруг ясно виделось лицо дочки — такой, какая она была на вокзале в день его отъезда, и раньше, совсем малышкой. В эти мгновения Матвею Тимофеевичу делалось как-то особенно легко и спокойно.
И вот в полусознании после контузии здесь, в болоте, Матвею Тимофеевичу вдруг слышалось: «Па, ты плоснулся?» — «Да, доченька».
Голос Наташи переходил в шум, совсем терялся. И всё уходило в небытие.
В те страшные дни, когда смерть стояла рядом с Матвеем Тимофеевичем, фашисты навели через реку понтонные мосты и стали окружать наших.
Ратикова нашли колхозницы, когда и на этом, восточном, берегу реки были уже фашисты. Вначале не надеялись, что Матвей Тимофеевич выживет. Но ведь недаром говорится: «Ослабеет человек — слабей воды, окрепнет — крепче камня». Не скоро поправился, но выжил! Подался в лес к партизанам. А совсем поправился — снова воевал, но теперь уже в тылу у врага. Ведь не было в партизанском крае военной профессии ценнее минёра-подрывника.
Так вот и провоевал Матвей Ратиков — сначала с нашими партизанами, а потом с братьями по оружию — в лесах и горах Югославии и Чехословакии.
— А письма? — спросила Галина Фёдоровна.
— Что письма?
— Почему не писал?
— Почты не было.
— Где не было?
— Там.
— Где там?
— В лесу и в горах, у партизан.
— А…
— Поняла?
— Поняла.
— Ты думаешь, я только с нашими партизанами был?
— А с какими?
— С нашими-то с нашими, но не только с русскими. В нашем отряде югославы были, чехи, ну и русские, конечно. Но друзей наших иностранных больше было. Они в тех лесистых горах всякую тропочку знали.
— Поседел ты, Матвей!.. Милый ты мой, родимый, единственный… — Она прижалась к гимнастёрке, пахнущей мылом, и чувствовала, как леденеют руки…
Матвей Тимофеевич переобувался, когда увидел, как в узкий переулок, громыхая гусеницами, вошла артбатарея.
Он удивился этому так же, как Володя, и тут же выбежал за ворота. Только успел снять сапоги и надеть те самые комнатные туфли, которые вынимала из тумбочки Ната. И вот теперь он стоял на тротуаре и смотрел, как торжественным маршем проходила славная гвардейская артбатарея мимо его сына Володи.
На гимнастёрке старшины Ратикова были боевые медали и золотые полоски — память о тех мгновениях, когда он смотрел смерти в глаза. Теперь он видел, как командир прославленной батареи обнял Володю, а бойцы стояли перед его сыном, отдавая ему честь.
Матвей Тимофеевич кусал ус, и ус этот был солёным от слёз.
1972 г.

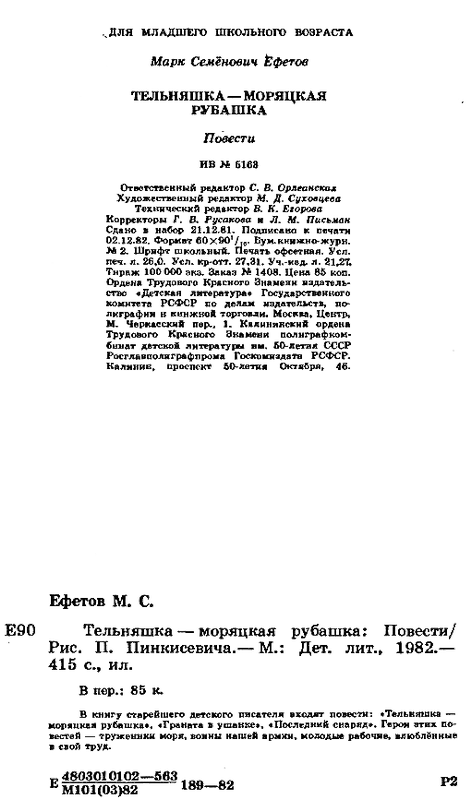

О найденных в тексте ошибках сообщать почтой: [email protected]
Новые редакции текста можно получить на: http://vgershov.lib.ru/