В начале лета 1850 года я и мои оставшиеся в живых товарищи покинули дикие дебри Центральной Америки, чтобы вернуться на родину. Достигнув побережья, мы сели на корабль, отплывавший в Англию. Судно это погибло в Мексиканском заливе. Я был одним из немногих спасшихся от кораблекрушения. В третий раз удалось мне избежать верной гибели. Смерть от тропической лихорадки, смерть от руки индейца, смерть в пучине морской — все три угрожали мне, все три миновали меня.
Американский корабль, плывший в Ливерпуль, подобрал уцелевших. Корабль прибыл в порт 13 октября 1850 года. Мы причалили к вечеру, а ночью я был уже в Лондоне.
Не буду описывать здесь мои путешествия и бедствия, пережитые вдали от родины. Причины, по которым я покинул свою страну, друзей и родных для нового мира приключений и опасностей, уже известны. Из своего добровольного изгнания я вернулся, как надеялся и верил, другим человеком. Испытания моей новой жизни закалили меня. В суровой школе крайней нужды и лишений воля моя стала сильной, сердце мужественным, разум самостоятельным. Я уехал, спасаясь от собственной судьбы. Я вернулся, чтобы встретить судьбу, как подобает мужчине.
Вернулся к неизбежной необходимости подавлять свои чувства, зная, что так суждено. Горечь ушла из моих воспоминаний, осталась только печаль и глубокая нежность к тем счастливым, незабвенным минувшим дням. Раны прошлого не зажили. Я не перестал чувствовать непоправимую боль из-за обманувших меня надежд, но научился нести свой крест. Лора Фэрли жила в моем сердце, когда корабль уносил меня вдаль и я в последний раз глядел на исчезавшие в тумане берега Англии. Лора Фэрли жила в моем сердце, когда корабль нос меня обратно и утреннее солнце озаряло приближавшиеся родные берега.
Перо мое пишет имя, которое она носила прежде, в сердце моем по-прежнему живет старая любовь. Я все еще пишу о ней, как о Лоре Фэрли. Мне трудно думать о ней, трудно говорить о ней, называя ее по имени ее мужа.
Мне нечего больше прибавить к моему вторичному появлению на этих страницах.
Настоящее повествование, если у меня хватит сил и мужества писать его, должно быть продолжено.
Когда наступило утро, сердце мое с волнением и надеждой устремилось к матушке и сестре. После долгого отсутствия, во время которого в течение многих месяцев они не получали никаких вестей обо мне, я считал необходимым подготовить их к нашей радостной встрече.
Ранним утром я послал письмо в коттедж в Хемпстеде, а через час направился туда сам.
Когда утих первый взрыв радости и к нам постепенно начало возвращаться тихое равновесие прежних дней, я понял по выражению лица моей матушки, что на сердце у нее тяжелое горе.
В глазах ее, смотревших на меня с такой нежностью, я читал больше чем любовь. С глубокой жалостью она сжимала мою руку. Мы никогда ничего не таили друг от друга. Она знала о моих разбитых надеждах, она знала, отчего я ее покинул. Я хотел было спросить ее как можно спокойнее, не получала ли она писем для меня от мисс Голкомб, не было ли каких известий о ее сестре, но, когда я взглянул в лицо матушки, вопрос замер на моих устах, у меня не хватило смелости задать его. С мучительной нерешительностью я мог только выговорить:
— Вам надо мне что-то сказать?
Сестра моя, сидевшая напротив нас, вдруг встала — встала и, не сказав ни слова, вышла из комнаты. Матушка подвинулась ближе ко мне и обняла меня. Ее любящие руки дрожали, слезы струились по ее дорогому, родному лицу.
— Уолтер! — прошептала она. — Сын мой любимый! Сердце мое так скорбит за тебя! О сын мой! Помни, что у тебя осталась твоя мать.
Голова моя упала к ней на грудь. Я понял, что она хотела сказать этими словами.
Настало утро третьего дня с момента моего возвращения, утро 16 октября.
Я остался у матушки и сестры — я старался не отравлять им радости долгожданного свидания со мной. Я сделал все, что мог, чтобы оправиться от удара и примириться с необходимостью жить дальше. Я сделал все, чтобы мое страшное горе не вылилось в безысходное отчаяние, — смягчилось моей любовью к матушке и сестре. Но все было бесполезно, все было безнадежно. Я окаменел от горя. У меня не было слез. Ни нежное сочувствие сестры, ни горячая любовь моей матери не приносили мне облегчения.
Утром этого дня я открылся им. Я смог наконец выговорить то, о чем хотел сказать с той минуты, как матушка известила меня о ее смерти.
— Отпустите меня, дайте мне некоторое время побыть одному, — сказал я. — Мне будет легче, когда я снова увижу те места, где впервые встретился с ней, когда я преклоню колени у могилы, где она покоится.
Я отправился в путь — к могиле Лоры Фэрли.
Был тихий, прозрачный осенний день. Я вышел на безлюдной станции и пошел по дороге, где все мне было памятно. Заходящее солнце слабо просвечивало сквозь перистые облака, воздух был теплый, мягкий. На мир и покой сельского уединения ложилась тень угасавшего лета.
Я дошел до пустоши, густо заросшей вереском, я снова поднялся на вершину холма, я посмотрел вдаль — там виднелся знакомый тенистый парк, поворот дороги к дому, белые стены Лиммериджа. Превратности и перемены, дороги и опасности многих долгих месяцев, как дым, исчезли из моей памяти. Как будто вчера я шел по душистому вереску — я мысленно видел, как она идет мне навстречу в своей маленькой соломенной шляпке, в простом платье, развевающемся по ветру, с альбомом для рисунков в руках.
О, смерть, безжалостно твое жало! Ты побеждаешь все…
Я свернул в сторону, и вот внизу, в ложбине, передо мной встала одинокая старая церковь, притвор, где я ждал появления женщины в белом; холмы, теснившиеся вокруг тихого кладбища; родник, журчавший по каменистому руслу. Там, вдали, виднелся мраморный крест, белоснежный, холодный, возвышаясь теперь над матерью и над дочерью.
Я приблизился к кладбищу. Я прошел через низкую каменную ограду и обнажил голову, входя в священную обитель. Священную, ибо здесь покоилась кротость и доброта. Священную, ибо любовь и горе мое были отныне моими святынями.
Я остановился у могильной плиты, над которой высился крест. В глаза мне бросилась новая надпись, выгравированная на нем, — холодные черные буквы, безжалостно и равнодушно рассказывающие историю ее жизни и смерти. Я попытался прочесть их: «Памяти Лоры…» Нежные, лучистые голубые глаза, отуманенные слезами, светлая, устало поникшая головка, невинные прощальные слова, молящие меня оставить ее, — о, если бы последнее воспоминание о ней не было столь печальным! Воспоминание, которое я унес с собой, воспоминание, которое я приношу с собой к ее могиле!
Я снова попытался прочесть надпись. Я увидел в конце дату ее смерти, а над этим…
Над датой были строки — было имя, мешавшее мне думать о ней. Я подошел к ее могиле с другой стороны, откуда я не мог видеть надпись, где ничто житейское не вставало между нами.
Я опустился на колени. Я положил руки, я уронил голову на холодный, белый мрамор и закрыл глаза, чтобы уйти от жизни, от света. Я звал ее, я был с нею опять. О, любовь моя! Сердце мое вновь говорит с тобой. Мы расстались только вчера — только вчера я держал в руках твои любимые маленькие руки, только вчера глаза мои глядели на тебя в последний раз. Любовь моя!
Время остановилось, и тишина, как ночь, сгустилась вокруг меня.
Первый звук, нарушивший эту тишину, был слабым, как шелест травы над могилами. Он постепенно делался все громче, пока я не понял, что это звук чьих-то шагов. Они подходили все ближе и ближе — и остановились.
Я поднял голову.
Солнце почти зашло. Облака развеялись по небу, косые закатные лучи мягко золотили вершины холмов. Угасавший день был прохладным, ясным и тихим в спокойной долине смерти.
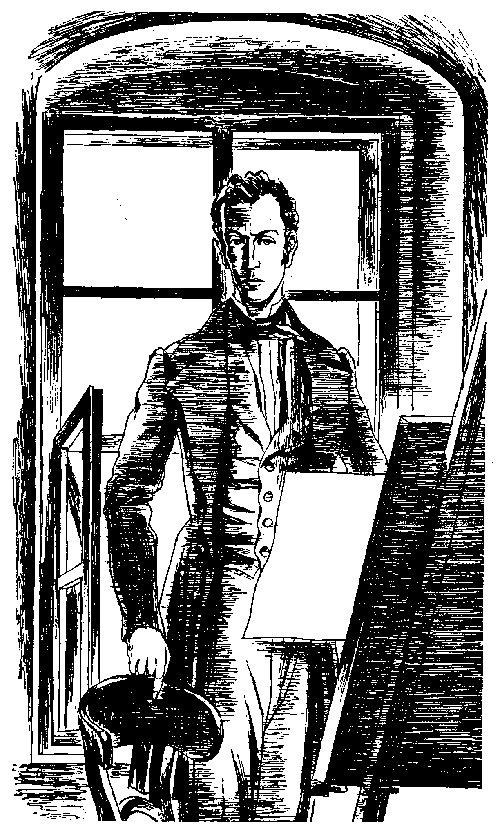
В глубине кладбища в призрачном свете заката я увидел двух женщин. Они смотрели на могилу, они смотрели на меня.
Две женщины.