— Саша, мой родной…
Губы ее неслышно прошептали: «Не это главное…» И беспощадные эти слова, словно острый луч, на мгновение прорезали тьму, осветили будущее. Но одного мгновения было слишком мало, чтобы разглядеть, что там. Женя успела увидеть лишь одно: пронизанный тревожными ветрами Киев с его крутыми, гористыми улицами. Киев, где жизнь и смерть шли рядом.
Они сидели взявшись за руки, как дети.
Они молчали. Им не нужны были слова.
Серый осенний день за окном окутался холодным туманом.
Прячась за туманом, подкрались сумерки. Надвигалась ночь. И кто мог сказать, сколько еще таких ночей впереди — топот подкованных сапог по мостовой, удушливый дым пожарищ и выстрелы во тьме?
Они молчали, до краев полные этим молчанием. И все слова — яркие, разящие, всевластные слова, придуманные людьми за века и тысячелетия, были бессильны пред этим прекрасным молчанием.
Киев
1959–1962
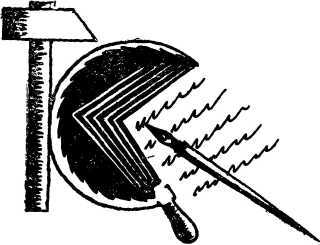
ПОВЕСТИ
Нам было тогда по двадцать
В то хмурое дождливое утро, когда Толя Дробот с шумом распахнул окно и взглядом, полным детского изумления, окинул блестящие почки каштана, а Игорь Ружевич, сморкаясь, жаловался на насморк и рассуждал о вреде сырого воздуха, — в то апрельское утро Марат Стальной пришел в редакцию на полчаса позже обычного, но с потрясающей новостью.
Он тряхнул растрепанными черными вихрами, бросил свысока:
— Сидите? Ничего не знаете?
Толя даже не повернул круглой стриженой головы.
— А что мы должны знать? — спросил Игорь, поправляя очки на покрасневшем носу.
— Что? Маяковский того-с… «Вы ушли, как говорится, в мир иной…»
— Что ты мелешь? — поморщился Толя Дробот.
— Мелю? Эх, ты!.. Маяковский застрелился, понял? Толя резко повернулся и уставился в худое смуглое лицо Марата. Игорь захлопал глазами.
— То есть как это?
— А вот та-ак! — насмешливо протянул Марат и приставил палец к виску: — Ба-бах…
Толя порывисто схватил газету и ткнул Марату в нос:
— Где, где? Покажи!
— Журналист должен знать обо всем раньше всех.
— Но почему? Почему? — недоумевал Игорь.
— Подробностей не знаю. Но это — факт.
У Толи перехватило дыхание.
— Боже мой, такой поэт!
— Помнишь, Толя… — начал Игорь и запнулся.
Год назад, прозевав пассажирский, они на товарном добрались ночью до Харькова. Пока не рассвело, мыкались по душному, переполненному вокзалу, а днем из третьих рук раздобыли билеты, чтобы хоть с галерки увидеть и услышать Маяковского.
— «Боже мой»!.. — презрительно скривил губы Марат. — Комсомолец Анатолий Дробот, может быть, ты еще и перекрестишься за упокой души?
Но Дробот ничего не слышал.
— Помолчи… — с досадой промолвил Игорь. — Такая страшная весть, а ты…
Толя качал головой:
— Вот вам, товарищи, мое стило и пишите сами! — Потом обернулся к Марату: — Такой поэт не мог умереть.
— А он и не умер. Он дезертировал! — Узкие глаза Марата смотрели колко и непримиримо. — Дезертировал, как трус. Во время боя.
— Но ведь ты не знаешь всех обстоятельств, — сказал Игорь и снял очки, отчего лицо его стало еще мягче и беззащитней.
— При чем здесь обстоятельства? — крикнул Марат. — Идет революционное наступление. А он? Эта пуля…
Толя угрюмо перебил:
— Поэтов, да будет тебе известно, убивают не пули.
— А что?
— Поэтов убивают зависть, тупость, злоба.
— Ну, — махнул рукой Марат. — Это было когда-то.
— Но ведь ты не знаешь причин, — снова вставил Игорь.
— И не хочу знать! Я в интеллигентские тонкости не вдаюсь. Для меня важны только факты!
Толя, ничего не слыша, качал головой.
— Такой поэт, такой поэт…
— Будут другие поэты, пролетарские, — уверенно сказал Марат. — Теперь и тебе, Толя, надо покончить с туманными стишками, точить рифмы, как штыки.
— Попробуй наточи!
— Почему бы нет? — не задумываясь, ответил Марат. — Был бы у меня талант…
— Ах, был бы… — Дробот, перегнувшись через стол, сжал плечо Марата так, что тот сморщился. — А откуда ты знаешь, что у меня он есть? А откуда ты знаешь, что такое талант вообще? И кто такой Маяковский? Замолчи!
Его поддержал Игорь. Всегда мягкий голос его налился гневом:
— Толя прав! Ты не смеешь так говорить. Произошла трагедия…
— Ах, трагедия!.. — рассмеялся Марат. — Ну и сказанул!.. Надень сперва очки да не забудь стекла протереть.
Игорю твердости хватило ненадолго. Он уже кротко убеждал:
— Пойми, Марат. Есенин повесился, Маяковский застрелился. Это действительно трагедия.
— Нет, это гнилая интеллигентщина. Трагедий в наше время не бывает.
— А что бывает? Что? — вспыхнул Дробот. — «Гоп, мои гречаники» или «Калинка, малинка, рябинка моя…»?
— А ты не смейся. «Гречаники», по крайней мере, каждому понятны. А твоего Маяковского — голову ломай и половины не допрешь.
Толя — скуластый, широкоплечий крепыш — встал перед Маратом, словно готовясь к драке.
— Так это сердяга Маяковский виноват, что ты не понимаешь? — Толины глаза потемнели. — Маяковский виноват? А может, твоя бедная головешка?
Заговорили все. Разом. Перебивая и не слушая друг друга. Но голос Марата вскоре заставил друзей замолкнуть. Игоря не трудно уложить испытанным ударом: «Интеллигентщина!» Толя Дробот крепко сшит, но слова подбирает втрое дольше, чем Марат, и слова эти какие-то простые, даже будничные, в то время как Марат бьет железом о железо.
— Если у тебя в руках наган, бей по врагу! А все остальное — оппортунизм, потеря классовых позиций…
Лицо Марата пылало. Ударяя кулаком по столу, он бросал горячие слова, которые больно ранили.

С пылу спора никто из них не заметил, что в открытых дверях стоит редактор Лавро Крушина и ерошит свою густую бороду. Невысокий, худощавый и — молодой. Свой, на его взгляд непростительный, тридцатишестилетний возраст редактор старательно прикрывает черной бородой, суровым взглядом, неторопливой речью. Правда, Крушина частенько, забывшись, выходит из роли. Блестящие черные глаза смотрят тогда на каждого весело, с хитринкой, голос разносится по всей редакции, а руки — хоть вяжи… Но через минуту, опомнившись, он снова пощипывает свою бороду.

— Петухи, петухи задиристые, — прозвучал его тихий голос как раз тогда, когда Марат достиг самых патетических высот. — Может, хватит митинговать?
— Товарищ Крушина, — бросился к нему Толя. — Правда, что Маяковский застрелился?
— Правда, — помрачнел Крушина. — Тяжелая утрата… Тяжелая и горькая.
— Не могу я этого понять… — растерянно сказал Игорь. — Когда я его слышал…
— А что тут непонятного? — перебил Марат, — Факт…
Крушина пытливо поглядел на Марата.
— Я тоже не могу этого понять. Революционный поэт. Весь мир призывал шагать левой. И вот… Ты говоришь: факт! Но ведь мы ничего не знаем. Покуда. Да и неизвестно, скоро ли узнаем обо всем, что его терзало, о чем он думал, когда взял наган. «Факт»!.. Но ведь надо знать, что стоит за этим фактом.
Все умолкли. Марат — с упрямым выражением несогласия на разгоряченном лице. Толя и Игорь — удивленные непривычно-грустным видом Крушины, однако довольные тем, что громогласная уверенность Марата не произвела на редактора ни малейшего впечатления.