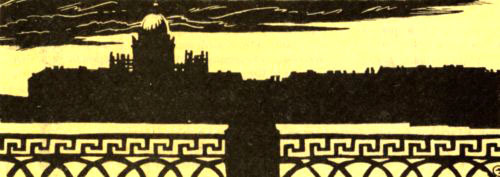Не правда ли, перед нами как бы набросок, конспект будущего героя «Белых ночей» (напомню, что фельетон написан годом раньше, чем роман)? Уже здесь отмечено, что мечтатель — характерное порождение Петербурга («это кошмар петербургский»); описан весь образ жизни этого «странного существа» — наклонность к мечтам, к фантазированию, принимающая неслыханные размеры; способность созидать в воображении целые миры и переселяться в них душою и телом; пристрастие к «ночам» — времени суток, в которое чувствует он себя и вольготнее и счастливее… Отмечен и тот порочный круг, в который попадает мечтатель, когда один призрак питает другой и выстраивается вереница призраков: «Бывают мечтатели, которые даже справляют годовщину своим фантастическим ощущениям». Эти строки почти без изменений перешли затем в «Белые ночи».
Правда, может показаться, что в «Петербургской летописи» мечтатель оценен строже, суровее, чем в романе. Отчасти это так, но только отчасти.
Не забудем, что в романе слово предоставлено самому мечтателю, а в фельетоне о нем говорит повествователь. Мечтатель, как и автор, чувствует ущербность, неполноту своего образа жизни (он так же называет себя «существом среднего рода», да и многие другие определения совпадают), однако изнутри нам внятнее трогательная поэзия его грез, благородство и трагизм его облика. Зато повествователю со стороны виднее, как необходим, насущно необходим выход из состояния «мечтательности».
Соотношение фельетона и романа можно представить себе так: фельетон тяготеет к внешней точке зрения на мечтателя, а роман — к внутренней. Правда, различие это относительное. Помните начало исповеди мечтателя? «…Позвольте мне, Настенька, рассказывать в третьем лице, затем, что в первом лице все это ужасно стыдно рассказывать…» Мечтатель превращает себя в некоего другого человека, так как он хочет быть объективным, беспристрастным — и во многом ему это удается. Но все же важно то, что рассказывает о себе он сам, а не «постороннее» лицо.
Различие точек зрения — автора и героя — можно показать на одном маленьком примере. Оба произносят одну и ту же фразу: человек — «художник своей жизни», но вкладывают в нее противоположное содержание. Для мечтателя это значит, что человек «творит ее (жизнь) каждый час по новому произволу», то есть всецело предан своим фантазиям. А вот слова из фельетона: «Забывает да и не подозревает такой человек… что жить значит сделать художественное произведение из самого себя; что только при обобщенных интересах, в сочувствии к массе общества и к ее прямым непосредственным требованиям, а не в дремоте, не в равнодушии… может отшлифоваться… его доброе сердце!» Быть художником своей жизни — значит строить ее в согласии с «требованиями» реальности. Совсем другой смысл!
Перед нами вырисовывается перспектива естественного развития человека, перехода из одного состояния в другое. О такой перспективе писал Белинский, касаясь художественного мира романтизма Жуковского. «Что такое романтизм? — спрашивает критик и отвечает: — Это — желание, стремление, порыв, чувство, вздох, стон, жалоба на несвершенные надежды, которым не было имени, грусть по утраченном счастии, которое бог знает в чем состояло; это — мир, чуждый всякой действительности, населенный тенями и призраками, конечно, очаровательными и милыми, но тем не менее неуловимыми; это — унылое, медленно текущее, никогда не оканчивающееся настоящее, которое оплакивает прошедшее и не видит перед собою будущего…»
Это сказано как бы специально о герое «Белых ночей».
Но затем Белинский говорит: «Есть в жизни человека время, когда он бывает полон безотчетного стремления, безотчетной тревоги. И если такой человек может потом сделаться способным к стремлению действительному, имеющему цель и результат, он этим будет обязан тому, что у него было время безотчетного стремления».
Романтическое воодушевление, подчас со всеми его крайностями, по Белинскому, — необходимый этап развития каждого человека (как и человечества в целом). Низок и мелок тот, кому не довелось пережить этого этапа. Но горе и тому, кто остался в его границах навсегда. В пору создания «Белых ночей» примерно такого же взгляда на романтизм придерживался и Достоевский. Взгляда достаточно определенного, но не простого, вовсе не сводимого к однозначному ответу: да или нет?
В самом деле, понимая всю уязвимость, всю слабость мечтателя из «Белых ночей», станем ли мы его осуждать? Ведь вовсе не все зависит от его воли и целеустремленности. Применима ли к нему фраза из «Петербургских записок», что он, отдавшись мечтам, «упускает моменты действительного счастья»?
Бросим еще один, последний взгляд на фабулу романа.
Вначале оба героя, он и Настенька, равны, равны своим несчастьем, одиночеством, бедностью, горькой тоской, жаждой лучшей доли, даже кажущейся одинаковой приверженностью к мечтаниям («…Я сама мечтатель!» — говорит ему девушка). Но постепенно обозначается некое преимущество Настеньки, преимущество прошлого — пережитой ею «истории», — преимущество надежды на ее продолжение. Ведь у мечтателя ничего этого не было и нет; он только сделал первый, самый первый шаг навстречу действительной жизни, он только полюбил, осмелился полюбить и даже признался в своей любви но не в добрый час…
«…Когда мы прощались, она подала мне руку и сказала, ясно взглянув на меня:
— Ведь мы теперь навсегда вместе, не правда ли?
О! Настенька, Настенька! Если б ты знала, в каком я теперь одиночестве!»
Получается, что несчастье сближает обоих, а счастье — ее счастье, ее встреча с возлюбленным — разъединяет. Получается, что даже пережитое им в эти чудесные белые ночи, пережитое уже не в воображении или не совсем в воображении, а в реальности, — все это было не его, по крайней мере не совсем его. Ведь он понял, увидел в конце концов, что «даже эта самая нежность ее, ее забота, ее любовь ко мне, — были не что иное, как радость о скором свидании с другим, желание навязать и мне свое счастье…».
Останься Настенька одна, может быть, события имели бы для мечтателя иной исход. Но перед лицом ее прежней ожившей сильной любви он был бессилен.
Не желая верить в то, что все для него уже кончено, мечтатель обращает к Настеньке слова, которые напоминают моление о любви: «…Я думал, что вы… я думал, что вы как-нибудь там… ну, совершенно посторонним каким-нибудь образом, уж больше его не любите…Тогда я бы сделал так, я бы непременно сделал так, что вы бы меня полюбили…» Но в тонкой, прихотливой, глубокой сфере сердечных отношений нельзя «сделать» что-то по уговору, нельзя заставить полюбить насильно. И нет оснований мечтателю кого-либо в этом винить — ни себя, ни Настеньку.
Бывают люди, ожесточающиеся в несчастий, мстящие другим за потерю, за неисполненные надежды. Мечтатель не таков: сколько самоотверженности и преданности оказал он Настеньке, заботясь об ее встрече с возлюбленным. Может быть, и был в его усилиях налет болезненного смирения, но кто решится бросить в него за это камень?
И, расставаясь с Настенькой, он не думает об «обиде», он желает ей лишь счастья, исполнен лишь благодарности за пережитую «минуту блаженства». «Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?…»
Заключительные слова романа иронически-печальны. Когда-то герой мечтал хотя бы о минуте действительной жизни, ради которой он готов отдать «все свои фантастические годы». И вот такая минута наступила, но она оказалась как бы и не совсем действительной, потому что с реальными происшествиями и реальным образом — образом чудесной девушки — снова сплелись мечтания, неисполнимые и неисполненные.
Таков всеобъемлющий гуманизм Достоевского: писатель исполнен «боли о человеке» всяком — бедном, обделенном, забытом, неудачливом, оставленном — и заставляет разделить эту боль нас, читателей.
Ю. Манн
НОЧЬ ПЕРВАЯ