— Ха, ха, ха! — весело заливается Нюра. — Да ведь это на том конце города, вот так отмахали кусочек! И поздно как уже… Глядите, сейчас электричество загорится!
И правда, загораются электрические фонари… Город сразу принимает новый, несвойственный ему днем уютно-ласковый вид.
— Ах, что я делать буду?! Меня ждут к обеду дома! Мама беспокоится, верно. Идем скорее, нам по дороге…
Теперь уже девочки не идут, а почти бегут по людным улицам города. Феерично-волшебными кажутся Даше освещенные окна магазинов. А все же променяла бы она всю эту красоту на скромный маленький домик подле церкви там, в селе, на горушке.
На Знаменской, куда проводила Нюра новую товарку, у ворот церковного дома, девочки расстаются. Крепко пожимая руку Крестовоздвиженской, Нюра говорит:
— Послушайте… хотите на «ты»? Ведь мы однолетки… Вы славная такая, простая милая. Давайте подружимся?! Хотите? Хочешь, Даша?
— Ну понятно, стоило спрашивать, понятно хочу!
И прежде, нежели Смолянская успевает это сделать сама, крепкие руки Даши обнимают девочку и губы Поповны прижимаются к ее щеке.
— Ну вот и отлично! Значит, на «ты»… Завтра увидимся в гимназии, — весело роняет Нюра. — И пусть кто-нибудь теперь попробует посмеяться над тобой… Пусть попробует только, — она еще раз наскоро целует Дашу и проворно исчезает за углом соседнего дома.
Вечер. В квартире отца дьякона ложатся рано: и сама дьяконица Татьяна Андреевна, и обе дочки-барышни, окончившие в этом году гимназию, ту самую, куда стараниями отца дьякона и его супруги удалось поместить Крестовоздвиженскую Дашу.
У Даши в комнате, скорее похожей на маленькую коробочку-угловушку, до сих пор игравшей роль гардеробной и теперь предложенной новой жилице, горит лампа. Даша сидит за столом и учит к завтрашнему дню уроки. Все они легки и возни с ними немного. Вот только французский. Задана басня Лафонтена на французском языке. И французский, и немецкий языки не даются Даше. Готовить их самой было нелегко.
А мать Даши если и учила когда языки в гимназии, то забыла за давностью времени и заботами по хозяйству. Приходилось Даше готовиться ощупью. Некому было исправлять произношение, пояснять непонятное. Здесь, в доме отца дьякона, легче. Старшая барышня Валентиночка с вечера разъяснила Даше завтрашний урок, перевела ей басню. Остается заучить, запомнить. А все же это весьма нелегкая задача!
Лампа освещает крошечную комнатку, стол, страницу стихов и крупную, склоненную над ней Дашину голову… Учиться трудно, запоминается туго. А тут еще так и тянет взять листик почтовой бумаги, обмакнуть перо в чернильницу и унестись теплыми прочувственными строками в далекое милое сердцу Крошино, к близким!..
Кончено! Одолена вконец трудная басня. Слава Богу! Теперь за письмо. Скорее, скорее… Даша взяла листок, конверт… Придвинула к себе небольшую баночку с чернилами. Задумалась на минуту. Всего писать нельзя. Нет. Совсем невозможно. Забеспокоятся, встревожатся, будут волноваться за Дашу, подумают, что ее обижают… Ни о насмешках, ни о приеме гимназисток упоминать нельзя. Сохрани Господи! Особенно о насмешках по поводу зонтика, шляпы! А то маменька из сил, как говорится, выбьется, во всем урезать себя станет, а уж накопит как-нибудь денег на новую шляпу, пальто, зонтик… Нельзя допускать этого!
Девочка осторожно обмакивает перо и старательно выводит на тоненьком листке дешевой почтовой бумаги:
«Здравствуйте, дорогой мой папенька, голубушка моя маменька! Слава Богу, благополучно добралась я до Питера и поселилась у отца Николая. Очень мне здесь хорошо. Не беспокойтесь обо мне, родные вы мои! Комнатка у меня светленькая, сухая, хорошенькая. И дьяконовы барышни добрые, хорошие, и сам отец дьякон, и матушка совсем как родные отнеслись ко мне. И насчет денег не беспокойтесь также. На все мне хватит! И из платья ничего не высылайте до холодов. Все есть, как следует. Была нынче в гимназии впервые. Очень понравилось! И начальство и девицы. Девицы, видать, добрые, ласковые. Встретили хорошо, показали, что готовить надо, объяснили. А испытания экзаменационные выдержала, слава Богу! Здесь не строго. Одна девица, зовут Нюрочкой Смолянской, подружилась со мной очень. Она ласковая, хорошая. И другая, Зиночка Ракитова, тоже хорошо ко мне отнеслась. По-французски синтаксис объясняла. Такая милая! Как-то вы без меня, мои любимые, поживаете, что малыши наши? Скажите, дорогие мои, Грише, что как приеду летом на каникулы, ему дома здешние нарисую. Огромадные, красивые. До свидания, покамест. Горячо целую Ваши ручки и прошу у Вас родительского благословения. Обнимаю Сашу, Симу, Гришука моего. Братцу Корнелию сама в семинарию писать буду. Еще раз прошу благословить всем сердцем любящую Вас покорную Вам дочь Вашу Дарью.
PS. А Питер-город такой прекрасный, что и во сне такой не приснится!»
Так кончилось Дашино письмо.
А о злополучном дне и насмешках девочек — ни слова…
НЕПРИЯТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
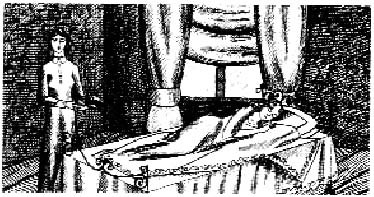
На столовых часах пробило половина восьмого. Наташа проснулась. Высвободила из-под одеяла тоненькую руку и нажала кнопку электрического звонка, в виде грушевидной балаболки висевшего в изголовье постели.
Позвонила и прислушалась. Не застучат ли знакомые каблуки в коридоре?! Так и есть — стучат! Это Анюта. Она аккуратно приходит будить Наташу каждое утро четверть восьмого. Сегодня опоздала отчего-то. Дверь в Наташину комнату, именуемую домашними, к крайнему неудовольствию ее хозяйки, «детской», широко распахнулась. Анюта, стройная, хорошенькая, немногим старше своей шестнадцатилетней госпожи, в высоком, тугом с утра корсете и белом чепчике на голове, с деловитым видом появляется на пороге. Наташина мама требует, чтобы прислуга была прилично одета с утра: горничная в корсете, чепчике и белом плоеном переднике, лакей во фраке.
И Наташа вполне разделяет мнение матери. Действительно, приятно видеть все нарядное, чистое и корректное перед глазами. И белый чепчик на русой Анютиной головке, и ее стройную, с тонкой талией, фигурку Наташа очень любит. Но сегодня почему-то и белый чепчик, и тонкая талия, и сама Анюта раздражают Наташу. Что-то смутное, неприязненное поднимается со дна души. Наташа подняла от подушки голову с всклокоченными ото сна волосами, сердито посмотрела на Анюту и ворчливо произнесла:
— Почему ты не разбудила меня в обычное время?
Анюта улыбается. Она представляет собой тип горничной, выросшей с детства у господ и считавшейся скорее членом семьи, нежели прислугой. Анюта — дочь Марьи Ивановны, домашней портнихи, с шестилетнего возраста играла с Наташей в куклы. Поэтому и тон у нее с маленькой барышней (к ужасу Наташи ее все еще называют так, потому что в доме есть большие барышни — двадцатилетняя Зоя и девятнадцатилетняя Мими) скорее фамильярно-ласковый, нежели покорно-угодливый, как у служанки.
На вопрос Наташи Анюта отвечает, ласково щуря смеющиеся глаза:
— А с чего бы вам и не поспать лишние четверть часика, а? Успеете в гимназию вашу! Слава Богу, не пешком туда ходите, как другие.
Действительно, в гимназию Наташа не ходит, а ездит. Ее отец очень популярный доктор, заведующий одной из столичных больниц, ежедневно ездит по утрам на службу и берет с собой Наташу, чтобы завезти девочку по дороге в ее учебное заведение, частную гимназию госпожи Горюниной.
Наташа недовольна. Беспричинная волна раздражения охватывает ее.
— Ты всегда так, Анюта… Подводишь только! — говорит она и брезгливо выпячивает пухлую губку.
Но Анюта неуязвима. Анюта прекрасно видит, что барышня «с левой ноги» встала, и только улыбается на воркотню Наташи, лукаво и снисходительно.
Часы бьют восемь.
Наташа стоит в большом резиновом тазу, наполненном до краев водой, а Анюта, вооруженная исполинских размеров губкой, тщательно вытирает худенькое, тонкое тело Наташи водой с одеколоном.