И тут я увидел: на руках у нее – не младенец, а моя добрая мать. Значит, матушка умерла, ее не было среди живых. Лицо ее было белым, она не улыбалась, но источала радость. Вглядевшись, я обнаружил, что она похожа на Деву Марию. Она была словно ее дитя, а я – ее сын. И я не почувствовал скорби, узнав, что она умерла. Я радовался, что подошли к концу ее одинокие годы…
Конунг сказал:
– Когда я умру, отправишь к Астрид корабль под черным парусом, с известием обо мне?
Я обещал ему это.
Он сказал, чтобы я после его кончины положил его тело на видном месте, чтобы люди простились с ним.
– Может статься, что тело окажется белым, сияющим, ибо я был конунг, а не лжец перед Богом. Пусть люди простятся со мной. Если же я солгал, то тело мое почернеет.
Он кивнул мне. Я наклонился и поцеловал его.
Затем я позвал королеву и тебя, йомфру Кристин. А он сказал:
– Поцелуйте меня…
Это было его последнее слово.
Умер Сверрир, человек с далеких островов, конунг Норвегии, властитель и раб.
Корабль под черным парусом ушел с известием за море, а воины и народ молчаливо прощались с умершим, проходя мимо белого, светлого тела.
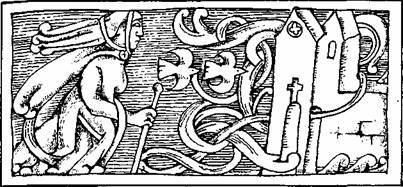
ЭПИЛОГ
Я встал и направился к ней, взял ее дрожащие белые руки в свои. Заглянул в глаза йомфру Кристин и сказал:
– Такова сага о твоем отце-конунге, такова истина, которую я знаю, и теперь ты можешь меня ненавидеть…
Она не отвела взгляда, но глаза ее потемнели, и я прочел в них ненависть и презрение. Еще я увидел слезы, а в самой глубине – нечто иное: любовь к другу ее отца, от которой ее защищали годы, лежащие между нами. Она положила мне руки на плечи. Начала говорить: сначала слова, которым она обучалась, как дочь конунга.
– Ты, господин Аудун, в красивом и мудром рассказе провел меня по тем же дорогам, по которым шел мой отец-конунг. Я увидела кровь и цветы. И я бесконечно благодарна тебе за прекрасную сагу о короле Норвегии – жестоком, но дающем пощаду врагам.
И она заплакала.
– Мне холодно, – проговорила она.
– Мы все здесь замерзли, – ответил я. – Но скоро наступит весна в Рафнаберге.
Я отошел к скамье, на которой лежал Гаут. В последние дни ему стало лучше, и я уже думал, что он переживет свое новое увечье и будет дальше скитаться по дорогам страны и прощать. На полу у скамьи спал Малыш. Он тихо похрапывал во сне.
Я слегка обнял йомфру Кристин и подвел ее к скамеечке у очага. Меня осенило, – меня, воина и священника, у которого было так мало женщин, да и то я любил их тайком, – что миг наступил: если сейчас я отброшу последний стыд, она упадет в мои объятия, как яблоко, сорванное с дерева ветром. Она вперила в меня взгляд, полный желания и ненависти. В доме все замерло.
В горах уже зацвела весна, и вскрылся фьорд. С крыш звенела капель, и пели первые скворцы. Скоро за нами придут: наши люди или же баглеры. Мы либо спасемся, либо умрем.
Но прежде мне надо выбрать: либо достойное – встать на колени, прежде чем йомфру Кристин отправится спать, либо – позор: принудить дочь конунга опуститься предо мной на колени.
К нам вошла служанка йомфру Кристин, прекрасная йомфру Лив.
Я приказал ей пасть ниц на каменном крыльце: и молиться там за дочь конунга и за нас. Ей, этой девственнице, лежать на ветру, без плаща, непреклонной в своей преданности госпоже и в молитве Богу. Она дрожала от холода. И хотя над Рафнабергом дул теплый ветер, на дворе еще лежал снег. Она смиренно молила о часе сна. Я позволил ей отдохнуть. Она поклонилась йомфру Кристин и мне. И пошла в свою комнату. Красивая, стройная, юная, добрая и благородная.
Я снова позвал ее.
Она стояла передо мной: платье ее походило на то, что носила йомфру Кристин. Обе они – одного роста. И у обеих – высокая грудь. Они были словно монеты, чеканенные одним мастером.
Я сказал:
– Йомфру Лив, на тебе ли еще тот крест, который принадлежит йомфру Кристин?..
– Да, – ответила мне она и показала крест.
– Можешь идти, – сказал я.
Теперь, когда мы с йомфру Кристин смотрели друг другу в глаза, я вновь понимал, что навечно буду склоняться пред волей конунга. Я сказал:
– Ты тоже ступай. Ты поклонилась мне, дочь конунга, и снова поблагодарила за сагу, что я рассказал, но никогда не напишу.
Я остался один. Малыш мирно дышал на полу перед лавкой. Гаут спал беспокойнее.
Я знал, что конунг со мной. Долгая, затяжная зима в Рафнаберге, горькая тайным счастьем, теперь позади. Скоро они придут: баглеры или наши; спастись или умереть. Я вдруг ощутил, что они вот-вот появятся здесь. Я вскочил со скамьи и хотел было разбудить Малыша, растолкать его, послать с поручением к страже: «Не спите сегодня ночью!» Но я опомнился. Надо ждать. Внутри я слышал голос конунга. Передо мной стояло его лицо. Но кто же придет: баглеры или наши?
И тут вбежал Сигурд. Он сообщил, что во фьорд вошел чей-то корабль. Он сел на мель у прибрежных скал, люди спрыгнули в воду. Это не биркебейнеры. И сейчас они бьются со стражей…
– Кони готовы? – спросил я.
– Да, господин Аудун.
– Ты помнишь свой долг. Когда я с дочерью конунга умчусь прочь, ты совершишь все, как велено: подожги волосы йомфру Лив, сорви с нее крест йомфру Кристин и брось перед Лив на пол. А сам хоть умри.
– Все ясно, господин Аудун.
И мы поскакали прочь из Рафнаберга – я и дочь конунга Сверрира.
Мы ехали долгими ночами, а вокруг лежал снег. Сам священник, я искал приюта у священников, говоря, что моя юная дочь опозорена воинами конунга Сверрира. Я говорил об этом украдкой, как мужчина мужчине, завоевывал расположение и получал помощь. Но я понимал также, что мою юную дочь надо будет выдать замуж, и я говорил об этом нашим друзьям, как она красива, но опечалена. А она закрывала лицо.
Наконец наступила весна. У меня еще были деньги, и как отец, я делил по ночам с ней ложе, и всякий раз она оставалась лишь дочерью. Она всхлипывала у меня за спиной.
– Я хочу быть твоей дочерью, и ничьей больше, – говорила она.
– А я бы хотел, чтобы ты была дочерью кого-нибудь другого, – шептал я.
Мы ехали дальше. Уже набухали почки и распускались цветы, зазеленели березы, и позади у нас не было кровавого следа.
Так мы добрались до монастыря на острове Гимсей. Там мы остановились. Я рассказал аббатисе, что моя юная дочь обесчещена воинами конунга Сверрира. И потому я задумал посвятить ее Богу, но меня одолели сомнения.
– Останьтесь и молите Господа разрешить все ваши сомнения, – сказала мне аббатиса.
За вечерней трапезой я осторожно спросил у нее, не боятся ли монахини, что к ним в монастырь нагрянут враги?
Она мне ответила, что в монастыре почти не чувствуется война. Этой весной к ним пришел лишь несчастный старик без рук. Откуда он, мы не знаем. Еще он без языка.
Тогда моя дочь склонила голову и прочитала «Аве Мария».
Аббатиса смогла рассказать о безруком, что он якобы злодей, который понес наказание, что он не желал выдавать своих сообщников, и потому лишился языка. И если он грешник перед людьми, то он грешник и перед Богом? Аббатиса взглянула на меня.
– Нет, – ответил я, – это необязательно так.
Я не вошел к несчастному калеке, но моя славная дочь сделала это. Она сразу вернулась обратно. И шепнула мне, что он кивнул головой в сторону фьорда, словно нас ждет там послание. Больше я ничего не знаю.
Весенней ночью шел теплый дождь, и я спустился вниз, к фьорду. Потом я вернулся, ведя за собой наших людей. У них был корабль. Я забрал из монастыря свою дочь. Забрал с собой и калеку. И мы вышли в море, держа курс на запад.
По пути в Бьёргюн я сидел на палубе и пил пиво с калекой Гаутом. Он кивал мне, благодаря. С нами была йомфру Кристин. Она смотрела на волны, а потом сказала: «У меня теперь нет служанки, господин Аудун, и мысль о том, что стало с йомфру Лив, причиняет мне боль. Ответь мне: ты поступил с ней так, потому что я – дочь конунга? И потому что отец мой – сын конунга?»