— Вы не представляете, что они требуют!
— Могу догадываться. И все-таки найдите, как поладить с ними. — Рогович неожиданно усмехнулся, сказал о другом: — А вы далеки от природы, Алексей Флегонтович. Я когда сказал про охоту на зайца, вы даже не пошевельнулись…
— У нас очень странный разговор, — обиженно сказал Грязнов.
Губернатор опять прошел к окну. Темнело. За голыми деревьями, росшими по крутому берегу, вспыхивали белые барашки волы — пустынная Волга заставляла думать о чем-то далеком, грустном.
— Откровенно сознаюсь, Алексей Флегонтович, сегодня у меня прощальный день. Ухожу от дел.
— Вы выбрали удачное время, — съязвил Грязнов.
— Не сомневаюсь. — Губернатор словно не заметил ехидного тона. — Хотите полюбопытствовать, чем я обосновываю свое решение?
— Сочту за честь, — без особого желания проговорил Грязнов.
Рогович взял со стола кожаную папку, вынул из нее лист бумаги, исписанной нервным размашистым почерком. Грязнов принял. Читая, не мог скрыть удивления.
«Представляя при сем прошение об увольнении меня от должности ярославского губернатора, позволю себе объяснить причину этой просьбы.
Меня ошеломило появление Высочайшего манифеста от 17 октября, и я сознаю, что я совершенно непригоден оставаться на службе при наступивших обстоятельствах.
Как представитель твердо сложившихся старых консервативных взглядов, я в сорок семь лет не могу себя переделать и становиться гибким „агентом власти“, приноравливающим свои убеждения к программе графа Витте, которая приводит меня в ужас за будущее России. А. Рогович».
Грязнов бережно положил прошение на стол. Рогович терпеливо ждал, что он скажет. Молчание затягивалось.
— Государю будет приятно прочесть, ваше письмо, — с прорвавшейся завистью сказал наконец Грязнов. — Нынешняя сумятица не может долго продолжаться, мы еще увидим старые добрые времена. Вы, заявивший сейчас о преданности престолу, не будете оставлены вниманием.
— Меня поражает ваше безошибочное чутье, — весело сказал Рогович. — Однако в мыслях моих не было ничего похожего, о чем вы говорите. Я высказываю свою боль, свое возмущение неумелыми действиями правительства. И только.
— Да, да, — рассеянно отозвался Грязнов.
«Милостивый государь!
Наше распоряжение встречено отдельными рабочими крайне неодобрительно. Нашлись гуляки, которые осмеливаются указывать, что работа сразу по девять часов будет им тяжела и лучше оставить старую разбивку смен — заработку и доработку (по четыре с половиной часа каждую!).
Особенно недовольны денные рабочие, для которых установлен десятичасовой день. Они собираются толпами, кричат, не понимая того сами, что требуют. Они хотят сокращения рабочего дня еще на три с половиной часа в неделю, устроить кассу взаимопомощи и иметь выборного старосту в каждом отделе, который стал бы защищать их права перед администрацией. До чего додумаются дальше — неизвестно.
Мною объявлено, что если рабочие недовольны новым расписанием, то, идя навстречу их пожеланиям, администрация отменит его. Сообщение это отрезвило горячие головы, и теперь пожилые рабочие сами останавливают смутьянов.
Кроме сего, сообщаю, что ткачи намерены судиться с администрацией за якобы долголетний обмер — они обнаружили, что выработанные куски миткаля имеют не шестьдесят аршин, как указывается в расценочной табели, а на два и четыре аршина больше. Действия ткачей рассчитаны на явный скандал, дабы вызвать к себе сочувствие всего города. На фабрике идет сбор денег, нужных для ведения судебного процесса. Поговаривают, что вести их дело будут студенты юридического лицея. Мною кое-что предпринято, и, надеюсь, их притязания признают необоснованными.
Мне и раньше приходилось указывать на бездействие местных полицейских чинов. В слободке открыто говорят о вооруженной рабочей дружине, которая собирается для обучения в сосняке за Новой деревней и у Сороковского ручья. Третьего дня, гуляя в парке, я сам слышал сильный взрыв и немало дивился, что бы это могло значить. После доверенные лица сообщили, что дружинники испытывали бомбу, которых у них имеется несколько штук. На мое категорическое заявление полицейское управление ответило, что о рабочей дружине известно и принимаются меры к тому, чтобы разоружить ее. Будем надеяться, что так оно и станет.
До сего дня фабрика работает с большими перебоями, хотя готовый товар отправляется в Ваш адрес каждодневно. Крайне желательно Ваше присутствие, чтобы окончательно уяснить, на какие из пунктов требования можно согласиться. Остаюсь преданный Вам А. Грязнов».
Глава пятая
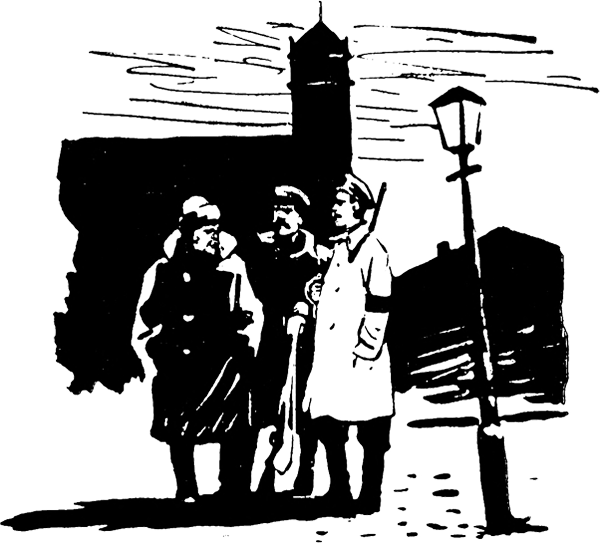
Над городом плыл тягучий колокольный звон — в церквах звали к заутрене. Сквозь темь ночи пробивался неторопливый зимний рассвет. Сторожа собирались вместе, говорили о том, о сем. «Нынче, вроде, не кричали». — «Какое не кричали — было». Вздыхали (больше для порядку — ко всему уж привыкли в последнее время) и шли по домам. На улицах появлялись первые прохожие.
Наступал воскресный, похожий на сотни других день. Куда пойти, чем заняться? Вспомнишь, что было раньше: с утра ехали и шли к Которосли, смотрели, как сшибаются на льду городские парни с фабричными; в полдень у Романовской заставы на большом расчищенном от снега поле, глядишь, объявлены скачки; вечером под руку с женой можно погулять у «Столбов» — ресторана возле Ильинской площади. Есть еще театр — первый на Руси, когда-то известный тем, что все лучшие актеры считали своим долгом хотя бы раз сыграть на его подмостках. Туда, сюда — вот и прошел день.
Нынче затаился город: ни кулачных боев, ни скачек, не хочется идти и к «Столбам». На улицах то и дело стрельба. Бродят толпами дюжие молодчики из черной сотни, бьют стекла в лавках, задирают прохожих. Полицейских, которые останавливали бы их, днем с огнем не сыщешь, попрятались по домам, затаились.
Теперь устанавливать порядок прибыли казаки. Устанавливать-то порядок прибыли, а сами его блюсти не могут: то кого-либо побьют, то ни за что обругают, в трамвае кондуктор билет с них не спрашивай — выкинут за ошорок на полном ходу… Куда пойдешь, если кругом бесчинства!
Иной обыватель сидит дома, томится, а потом перекликнется с соседом, заявится к нему. Пьет до одури, спорит до хрипоты. Вечером, кутаясь в одеяло, долго не может уснуть: «Охо-хо, жизнь наша преходящая!..» Вдруг привстанет на локте, спросит в темноту:
— А чего надо? Работа есть, крыша над головой есть… Отчего бунтуете?
Ждет обыватель не дождется, когда дотопчет последние лапти бурный и суматошный 1905 год. Авось в новом году все успокоится, все придет в норму.
На площади возле часовенки оглядывался по сторонам человек. Он только что вышел из трамвая и сейчас будто не знал, куда идти. Был он чуть выше среднего роста, черные усы, нос удлинен и на нем пенсне, цепочка от которого уходила в нагрудный карман. Пальто не новое, но доброго сукна, шапка пыжиковая разлохматилась на голове, словно бы приплюснула ее. Человек не здешний, сразу видно.
Егор Дерин и Артем Крутов стояли поодаль, не спускали глаз с незнакомца. Вот он остановил женщину, проходившую мимо, спросил что-то. Она указала на красное здание — фабричное училище, и он крупно зашагал к нему.
Парни пересекли дорогу, встали на пути. Егор спросил строго:
— Вы кого ищете?
— Училище, — ответил незнакомец и хотел обойти их.
— Да училище рядом, — сказал Егор, задерживая незнакомца плечом. — Кого там надо?
Тот отступил, пожал плечами и, помедлив, сам спросил:
— А вы кто такие?
— Мы-то? — вяло переспросил Егор. — Мы здешние, сторонские.
— А-а! — сказал незнакомец. Около училища толпится народ, а здесь на площади пусто, пройдет разве кто по своим делам, и опять никого нет. А как-то надо отвязаться от парней. — Вот что, — сказал с напором. — Проведите меня в стачечный комитет.