Тростянка прилетает, пожалуй, позже всех местных перелетных птиц. Майский пролет этих камышевок идет дружно. Летят они не стаями, и в удобных для них местах, где цел прошлогодний бурьян, по крапивным и лопуховым зарослям, по дерезнякам в степных балочках собираются десятками, каждый занимая какой-то маленький участочек, но не охраняя его от соседей. И все поют. Каких только голосов не услышишь на маленьком пустыре или заповедной степной залежи!
Это место общей остановки. Птицы проведут на нем день-два, и большинство их покинет его ближайшей ночью. Поэтому здесь они безразлично относятся к постоянным полетам и поискам кукушек, которым уже нужны чужие гнезда. Они не ссорятся друг с другом, не волнуются, когда рядом садится жулан или пролетает лунь.
Но улетят не все. И когда стемнеет, можно будет сосчитать, сколько тростянок осталось, избрав место для семейных участков. Молчат дневные певцы, и тихо поют в черных кустах тростянки. Поют без дневного азарта, с большими паузами и слабее, чем вполголоса. Словно спать певцу хочется, но петь надо, чтобы не пролетела мимо та, ради которой остался. Вот и пощебечет как спросонок, помолчит, снова пощебечет, перепела подразнит, который бьет на соседнем поле, соловьиное коленце выведет, то свой родовой призыв крикнет погромче. Поет, спрятавшись в густой куст, чтобы сова мимолетом не сняла. А едва забрезжит рассвет — проснутся в траве славки и сразу прибавят громкости, стряхнув дремоту, тростянки.
У этой камышевки два книжных названия: не очень удачное «болотная» — перевод латинского названия вида, и еще менее подходящее — «кустарниковая». Тростянка нередко гнездится и вдали от воды — на высокотравных лугах, крапивных пустошах, заброшенных огородах, которыми завладел бурьян. Это скорее травяная камышевка, потому что для гнезда, как и серой славке, ей нужен кустик травы, на стеблях которого она заплетает основу легкой постройки. Строит гнездо и насиживает яйца, конечно, самка: у таких заядлых певцов для этого не бывает времени.
Пока нет птенцов, на участке тростянки надо перебрать все до единой травинки, чтобы найти подвешенное на них корзиночку-гнездо. Но кукушка находит его точно в нужное ей время. После ее визита маленькие камышевки выращивают в нем чужое дитя, которое перед вылетом весит вдесятеро больше любого из воспитателей. Когда тростянка сует корм в морковно-красную пасть кукушонка-слетка, кажется, что приемыш вот-вот вместе с гусеницей проглотит и саму птицу.
Однако тростянки выращивают кукушат реже, чем другие камышевки — дроздовидная и тростниковая. Они так же безотказны, как и те, но в траве гнездо все- таки труднее отыскать, чем в зарослях тростников. После появления птенцов меняется поведение тростянок: они уже не скрывают, где их гнездо, только кукушке это теперь без надобности.
Хотя и коротка июньская ночь, но это ночь. Спят дневные птицы, спит в дупле ветлы синица, и доносится до нее сквозь сон, как неподалеку звенит ее собственный колокольчик, а следом удивленно всхлипывает сорока и тараторит славка. И этот колокольчик на два слога, тихий и ненавязчивый, звучит в тишине ночи особенно певуче и убаюкивающе.
В дождливый день
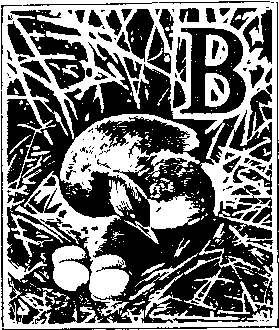
Весенний дождь тихий. Чуть вздрагивают под легкими каплями травинки. Не шумит мягкая и нежная молодая листва деревьев. Примолкли лесные птицы, и кажется, что сейчас неуютно даже тем, у кого есть крыша над головой, не говоря об остальных, в чьих гнездах птенцы или яйца.
А когда за лесом открывается тусклая из-за пелены дождя водная ширь, проникаешься еще большим сочувствием к птицам: здесь только в мокрую траву спрятаться можно. Сгорбившись, стоят у берегов серые и рыжие цапли, не видно постоянного патруля этих мест — коршуна, промокшая ворона, ничем не поживясь, спешит к лесу. Но на воде поют в подросших тростниках камышевки, кто свое, кто чужое. Чайки реют, не опускаясь ни на воду, ни на любимый песчаный островок, словно только и ждали этого дождя, чтобы искупаться на лету. Положив клювы на спины, спят посреди чистого плеса красноголовые нырки, и перо у них цвета дождливого неба, но сухое. А чуть ближе к травяным островкам, где помельче, плавают парочки ушастых поганок с птенчиками-пуховичками.
Эти поганки, что самец, что самка, роста и облика одинакового, и различить их невозможно. Однако сейчас и без бинокля видно, что из каждых двух птиц одна значительно крупнее, и она лежит на воде, но не дремлет. Другая, маленькая, юркая, то и дело ныряет возле нее, а вынырнув, быстренько подплывает, касается клювом спины или плеча и тут же снова исчезает под водой. Приближенные биноклем в двенадцать раз стали отчетливо видны на спине крупной птицы четыре маленькие головки: серые с тонким белым узором щеки и розовое пятнышко на лбу. Так вот почему «пятиглавая» мамаша выглядит такой рослой: под ее крыльями сидит четверка ее близнецов. Не от дождя забрались маленькие пассажиры на живой кораблик, под непромокаемое перо матери. Родившись почти на воде, птенцы всех поганок с неделю живут на спинах взрослых. У чомги их попеременно носят оба родителя, ушастые поганки делят заботу так: мать — с птенцами, отец — кормилец.
Маленькая, часто ныряющая птица — это отец. Он больше под водой, чем на поверхности, и без добычи не выныривает, каждый раз поднося птенцам то бокоплавчика, то иную водяную козявку. Охотится на чистой воде и в зарослях, появляясь иногда с целым ворохом травы на спине. В обеденное время четыре раза в минуту ныряет за добычей самец. Это двести сорок крошечных порций в час! Никакие синицы, мухоловки и горихвостки не могут так часто кормить своих птенцов вдвоем, а тут один выдерживает такой темп.
Я, не отрываясь, следил только за одной парой, считая порции. Самец сновал как заведенный, не успевая даже отряхиваться. Но этого все равно было мало, и четыре головки просили есть. Тогда стала помогать самка. Она опускала голову в воду, а потом отдавала корм на спину тому, кто сидел поближе. Уже шесть порций в минуту доставалось птенцам, а они по-прежнему жадно тянулись к клювам родителей: еще, еще, еще... Не оглядываясь назад, мать вдруг резко дернулась вперед, и трое мигом оказались на воде. С тем, который удержался, поступила еще проще: приподнялась, развернув крылья, как будто разминаясь перед ныряньем, и он и съехал со спины, словно с горки. Нырять вместе с птенцами мать может, но охотиться предпочитает налегке. И только этот последний вознамерился снова забраться на спину — а матери уже нет. Потом она вынырнула рядом и что-то протянула ему в клюве. И уже каждые семь-восемь секунд один из птенцов получал корм.
Тут неожиданно разыгралась сценка, невиданная мною в птичьем мире ни прежде, ни потом. Оказалось, что в пятидневном возрасте птенцы могут плавать быстрее родителей, могут нырять на три-четыре секунды, драться из-за корма и места на спине и вообще способны на многое, чего нельзя предположить у существ, едва начавших жизнь.
Когда трое из четырех птенцов насытились, они разом взобрались матери на спину, с такой быстротой и силой дрыгая лапками, что вода позади них вскипела бурунчиками, как за маленькой трехмоторной лодкой. Один остался на воде и плавал за отцом, получая от него едва различимую мелюзгу. После пятой или шестой порции отец, считая, что этого вполне достаточно, вдруг с такой скоростью дал задний ход от потянувшегося к нему птенца, что волны пошли в стороны. (Так, не оборачиваясь, способны передвигаться жители тесных нор, поганки пользуются задним ходом скорее всего под водой, попадая в пылу погони в густые травяные заросли, где трудно или невозможно развернуться назад.) Малыш не был знаком с таким приемом, не ожидал этого и замер на месте, но через мгновение вместо того, чтобы погнаться за отцом, обернулся и, раскрыв клювик, с таким негодованием бросился на мать, что та оторопела. Была бы эта сцена похожа на игру, если бы мгновенной растерянностью птенца не воспользовался отец: он обошел нахала, дал поесть одному из сидящих на спине и тут же нырнул, словно уворачиваясь от рассерженного птенца, снова метнувшегося к нему.