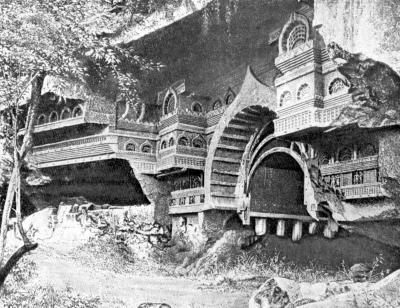
Естественный вывод изо всего этого тот, что пантеизм Индии, видимо обоготворивший все грубые силы природы и как бы олицетворяющий одни внешние образы, связан с областью физического ведения, химии, особенно астрономии, и представляет собой как бы опоэтизированный материализм, продолжение халдейского сабеизма. Но если, отбросив его внешнюю форму, доведшую темные массы до самого отвратительного поклонения кумирам, мы проникнем до первоначального происхождения мифов пантеизма, то не найдем в них ни богов, ни даже внешнего поклонения разным предметам из царств природы в их обыкновенном образе, а поклонение духу вездесущему, поэтому столь же присущему малейшей травке, как и силе, зародившей и вырастившей ее.
Таким является простое и естественное объяснение 33 крорам[217] (330 миллионов) богов Индии. Эти боги зародились и получили бытие вследствие темного стремления олицетворить неолицетворяемое, сотворяя себе тем самым «кумира». Краеугольный камень философского и религиозного мировоззрения их мудрецов очутился с течением времени в руках властолюбивых, холодно расчетливых браминов, и этот камень был разбит ими на осколки, истолчен в мелкий порошок для удобнейшего усвоения массами. Но для мыслителя, как и для всякого непредубежденного ориенталиста, эти исковерканные осколки, как и мельчайший щебень от них, все-таки от того же камня, – атрибуты проявленной энергии Парабрахма, единого, безначально и бесконечно сущего.
Брамины-ведантисты постулируют три рода существования: пaрамaртхика – действительное, истинное; вьявахaрика – условное практическое, и пратибхaзика – кажущееся. Парабрахма единственное представление первого, поэтому он и зовется сат, «воистину сущий» или единосущий; ко второму классу принадлежат олицетворенные в различных образах боги, личные души[218] смертных и все явленное, феноменальное, в мире субъективного чувства. Этот класс, получив бытие в представлении темных масс, имеет основание не более твердое, чем все то, что мы видим во сне; но ввиду реальности практических отношений людей к этим богам, существование их допускается условным образом. Третий класс включает в себя такие предметы, как марево, перламутр, принимаемый за серебро, свернувшаяся змея, принимаемая за веревку, а в своем подразделении и человека. Люди думают, воображают себе, что видят то или другое: стало быть для того, кто это видит и воображает таковым, оно действительно существует. Но так как эта действительность только временная и самая суть предметов преходящая, стало быть условная, то и выходит в конце концов, что вся эта действительность есть только иллюзия.
Все эти воззрения не только не мешают вере в личность божества и единство его, но даже служат непроходимой преградой атеизму. В Индии нет атеистов в том значении, какое мы, европейцы, придаем этому термину. Настика есть атеист в смысле неверования в богов, идолов. Это известно в Индии каждому, и мы в этом вполне убедились. Атеистам Запада и даже его агностикам далеко до философии настиков Востока. Первые грубо отрицают все кроме материи, последние, то есть индийские материалисты, настики, отнюдь не отрицают возможности существования того, чего они не понимают. Истинный философ поймет дух, а не букву их отрицания. Он легко убедится в том, что если, указывая на абстракцию, называемую Парабрахму, они учат, что этот принцип «без произвола и деятельности, без чувств, как и без сознания», то делают они это именно потому, что, по их понятию, единое под этим названием есть безусловный произвол, безначальная и бесконечная деятельность, самобытные самосознание, самомышление и самочувствие.
Выходит так, что пантеисты Индии, удерживая своих идолов, грешат только избытком религиозного, хотя и дурно применяемого чувства. Да и то сказать: после всесокрушающего и ровно ничего не созидающего, животного материализма Европы, такой пантеизм является нравственным и душевным отдохновением, цветущим оазисом среди мертвой, песчаной пустыни. Лучше верить хотя бы в одно из качеств божества, олицетворив его и поклоняясь ему под тем видом, которое по силе разумения каждого представляет ему удобопонятнейшее представление и символ Всего, – нежели, отвергая это Все под предлогом, что оно недоказуемо научными путями, не верить ни во что, как то делают наши ученые материалисты, да и модные агностики.
С точки зрения всего вышесказанного, хотя удивляясь и даже искренно смеясь над оригинальным выбором предмета божественного поклонения мистера Питерса, мы поймем, почему из ярого материалиста школы Милля и Клиффорда он так внезапно и неожиданно для всех превратился в пантеиста и даже в пуджиста.[219]
А теперь вернемся снова в Диг.
XXXIII
Рассказ Мульджи, весьма сокращенный мною, но в его устах переполненный подробностями, довел нас незаметно до обеденного часа, то есть до пяти часов пополудни.
Кругом нас стоял невыносимый зной.
Палящие лучи обливали как растопленным золотом мраморные стены и купола киосков, лежали ослепляющими пятнами на сонных водах прудов, пускали смертоносные стрелы во все живое и мертвое. Они заставили даже кучи попугаев и павлинов, которыми сады Индии изобилуют, как наши русские огороды воробьями, прятаться в самую чащу кустов. Тишина вокруг нас стояла непробудная… Все спало, все млело и горело…
Но мы еще до начала рассказа о мистере Питерсе забрались в центральную беседку из мрамора, высокую и почти спрятанную в самой чаще сада, где, не рискуя выходить из найденного нами благословенного приюта, наслаждались в нем относительной, конечно, прохладой. Окруженная со всех сторон водой небольшого бассейна, среди которого она возвышается, обширная и затемненная водяными ползучими растениями, она давала нам приют, где мы не чувствовали ни большего жара, ни утомления. К нам, на несколько сажен в окружности, манило тенью и прохладой; за чертой зеркального, миниатюрного пруда пылал ад и земля трещала и лопалась от огненных лобзаний страшного весеннего солнца, лучи которого лизали своими пламенными языками все еще роскошную, но уже увядающую растительность сада. Розы сжимались и осыпались; даже лотос и водяная лилия закручивали в трубочку окраины своих толстых, выносливых лепестков, словно брезгливо сторонясь от жгучего прикосновения. Одни орхидеи, «цветы страстей»,[220] высоко поднимали свои пестрые, насекомообразные чашечки, упиваясь этим огненным потоком, как другие цветы упиваются прохладной росой…
Чтo за оригинальный, прелестный сад! Разбитый на голой скале, на пространстве каких-нибудь ста двадцати сажен в длину да пятидесяти в ширину, он заключает в себе более двухсот больших и малых водометов и фонтанов. Управляющий, слащавый, похожий на евнуха старик, уверял нас, что «не все водометы пущены»; многие засорились и попортились; но что в день приема в Диге, если не ошибаюсь, принца Уэльского, их было шестьсот. Но мы остались вполне довольны и двумя стами. За несколько рупий садовники доставили нам возможность чувствовать себя среди восхитительной прохлады целый день и гулять лунной ночью в аллее, обсаженной вместо деревьев двумя сплошными рядами высоко бьющих фонтанов. Ничто не могло сравниться с эффектом этих двух стен водяной пыли, искрящейся в лунном свете бриллиантами и переливающей всеми радужными тенями перламутра. Чудный уголок, а между тем забытый всеми, не посещаемый никем, кроме случайно проезжих англо-индийских чиновников, всегда готовых пользоваться угощениями туземных принцев, а в благодарность поносить их на всех перекрестках.
217
Крора – 100 лакков или 10 миллионов.
218
Личная душа, или земное сознание, отлична от бессмертного в нас «духа» в учении браминов.
219
От слова пуджа – поклонение богам по установленным правилам; не молитва, а обрядность.
220
Passion flower, называется потому, что этот род орхидей распускается вполне только в полуденный зной.