От: "Смит" ‹[email protected]›
Кому: [email protected]
Тема: RE: О ней
Ли,
История интересная.
Ты найдешь возможность ответить на мои вопросы?
Кому: "Смит" ‹[email protected]›
Тема:
Хорошо. Ни слова больше, если так. Только ответы. Все, что знаю.
Думаю, что Ада была права: Байрон взялся за роман на вилле Диодати в Швейцарии и продолжил работу в последующие месяцы — бросал и принимался снова — это вполне вероятно ввиду причин, угаданных Адой: рукопись временами отражает события, происходившие тогда в его жизни, — сначала супружеский разрыв (или Разрыв, как позднее всюду стали его именовать, словно он был единственным на свете — или сделался образцом), который только что был доведен до конца; затем Венеция — и связь с карбонариями.
Обстоятельства таковы:
Во-первых, Мэри Шелли бросила вызов, который заставил Байрона задуматься о прозе и романтических повестях. Далее, как раз тогда ему нанес визит Мэтью Грегори Льюис, «Монах» Льюис — автор самого успешного из всех готических романов, «Монаха». Льюис был весельчак, давний приятель Байрона — и тот неизменно радовался встречам с ним; Льюис обладал немалым состоянием благодаря не литературным гонорарам, а доходам со своих сахарных плантаций в Вест-Индии (по-нашему, на Карибских островах), где имел большое количество рабов. (Байрону вовсе не требовалось заимствовать зомби у Саути, как предположила Ада; он мог узнать о них у Льюиса, который наверняка очень ими интересовался). Возможно, тут сказались долгие разговоры с Шелли, но Байрон, воспользовавшись случаем, убедил Льюиса во время его визита добавить к завещанию кодицил, согласно которому выделялся капитал для смягчения жизненных условий невольников и освобождения хотя бы части рабов по смерти владельца. Вообрази эти переговоры — да ладно тебе, Льюис, почему бы не освободить сразу всех? — а в итоге Шелли с Байроном засвидетельствовали подпись на завещании.
Итак, мысли Байрона занимали рабы и Вест-Индия.
Кроме того, известно, что примерно в то время ему прислали трехтомный роман Каролины Лэм, о котором я уже писал. Назывался он «Гленарвон» — и раскупался нарасхват. Итак, Байрон читал — мы знаем, что читал, — беллетристическое повествование о себе самом: он был изображен в обличье омерзительного/ ослепительного лорда Гленарвона, повинного в бесчисленных злодеяниях, а Каролина воплотилась в образе невинной и незапятнанной Каланты. Вот что он писал Томасу Муру — своему другу, а позднее биографу: «Мне думается, что если бы сочинительница написала правду и только правду — всю правду, — роман получился бы не только романтичнее, но и занимательнее». Так что, не исключено, Байрон над этим раздумывал и решил вновь попытать силы в прозаическом роде, создать собственный roman aclef [42]— но ближе к своему природному складу, каким он себе его представлял, и к истории собственных похождений.
Продолжу потом.
Кому: "Смит" ‹[email protected]›
Тема: Призрачный роман
А. — Так — продолжаю читать — видишь, как усердно я для тебя стараюсь, к тому же во время отпуска — Короче, читаю Маршана, крупного биографа Б. — и вот он тут пишет — в сентябре 1816-го, именно там и тогда, как затеялись истории Шелли/Полидори, — что «Байрон начал прозаическую повесть — слегка затушеванную аллегорию своих матримониальных дел, но, узнав, что леди Байрон больна, бросил рукопись в огонь».!!! Никаких пояснений, откуда Маршану об этом известно.
Итак, возможно, что рукопись в огонь Байрон не бросал. Собирался. Подумывал, что следовало бы. Но не бросил. Вот такое соображение.
Кому: "Смит" ‹[email protected]›
Тема: Точка
Алекс,
Так — 3: когда Байрон поставил точку.
Когда он окончательно отложил рукопись, сказать не могу, но задаюсь вопросом, не имеет ли это отношения к его знакомству с ироикомической эпопеей поэта по имени Фрир, который подписывался как «Уильям и Роберт Уислкрафты» — редкий случай двойного псевдонима. (Ты, должно быть, заметила лаконичный комплимент ему на страницах, отведенных Испании, где он действительно состоял британским консулом). «Эпопея» Фрира представляла собой поэму, написанную ottava rima [43]— той самой строфой, какую Байрон использует в «Дон-Жуане»: как и другие поэмы подобного рода, она изобилует шуточными рифмами в стиле Огдена Нэша и насмешками над всякого рода претенциозностью. Фрир взял за основу стиль венецианских остроумцев — таких, как Пульчи, которого Байрон читал по-итальянски. Поэму Фрира прислал Байрону его издатель, назвав ее замечательной и виртуозной; Байрон согласился, что поэма замечательная, однако ничуть не виртуозная, и за несколько дней написал «Беппо». («За несколько дней» — это по словам Байрона; он всегда старался предельно умалять свои творческие усилия.) Вот и результат: открылся путь к «Дон-Жуану» — поэме, которая вобрала все пережитое Байроном. Вероятно, он почувствовал, что нашел способ воплотить то же, что и в романе, только гораздо лучше, в полную силу своего таланта, и потому бросил работу над рукописью. Каким бы чудесным мне ни представлялся ДЖ, я, однако, не в силах долго его читать в один присест. Мне бы хотелось, чтобы Байрон закончил этот, прозаический роман — если он не завершен, — а потом взялся бы за новый, еще более удачный, а потом еще за один. «Дон-Жуан» — это sui generis [44], но в ту эпоху длинная повествовательная поэма уже выдыхалась, а жанр романа набирал силы. Вообрази — Байрона читали бы сегодня, как Джейн Остин. Ну и ладно.
Не знаю, когда именно Байрон решил, что его творение не может увидеть свет, но решение это явно продиктовано откровенностью и (как выражаемся мы, литературоведы) непосредственностью в описании его супружества. Используя факты собственной биографии и биографий окружающих, он знал, как их преобразовать — сохранить суть, но не связь. Задача была нелегкой, и он немало был ею озабочен: ты, наверное, обратила внимание на эпиграф к ДЖ, взятый из Горация: «Difficile est proprie communia dicere» — «Трудно говорить хорошо об обычных вещах» — о том, что объединяет всех нас. Так оно и есть. Обращаясь к Байрону, читатели искали в нем НЕобычного и НЕпривычного, доброго или дурного. Но он-то считал, что состоит из domestica facta [45], как и всякий другой.
Алекс, электронная переписка меня утомляет. Хочется чего-то большего, чем наш эпистолярный роман. Ты размышляла над моим предложением? Возможно, ты предпочтешь направиться в другую сторону — на запад, а не на восток, — а до меня из разных источников доходят слухи, что мне, наверное, вскоре предстоит поехать на Новую Гвинею, которая лежит так далеко на востоке, что это уже почти запад. И к тому же я опасаюсь — не столько тебя, сколько прошлого, и времени, и, быть может, собственной несообразности, — но все же не отказываюсь от надежд. Должно же быть что-то для нас впереди. Это зависит скорее от тебя, чем от меня, но если я могу что-то сделать — думаю, ты должна мне об этом сообщить.
Всей душой,
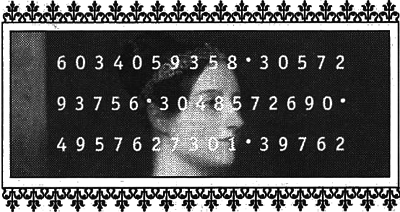
Глава двенадцатая,
содержащая возвращение к Началу, насколько это возможно
На побережье Эпира, в порту Салора, в полдневные часы рыбаки чинят сети или же вместо того дремлют в тени перевернутой лодки, покуривают трубки и возносят молитвы одному Божеству либо нескольким (по меньшей мере — Аллаху и Деве Марии), дабы избежать любого гнева свыше. Их прародители поступали точно также и возлагали жертвоприношения равными долями на разные Алтари. Однажды к этому побережью, распростертому под голубым куполом, — к побережью, мало отличимому от прочих (Корабли появляются здесь редко, и еще реже ступают на берег те, кто незнаком здешним рыбакам), — причаливает лодка, с которой сходит на берег молодой человек, — он одет по-европейски, однако обращается с приветствием на албанском языке (хотя и запинаясь), а не на языке Неверных. Рыбаки отвечают, но юноша как будто не слышит ничего — он оглядывается по сторонам, словно только очнулся ото Сна и не вполне убежден, вправду ли вокруг него существует осязаемый мир. Зачем он здесь? Он намерен, сообщает юноша — скорее самому себе, для собственных ушей — совершить путешествие на север, в страну жителей Охриды, — ему нужен проводник, два-три спутника, лошади — и рыбаки направляют его туда, где можно об этом сторговаться. Больше юноша не показывается — но едва проходит день, как рыбаков вызывает из праздности новое диво: другой молодой человек, также в европейской одежде, вступает на их забытый берег — и задает вопросы, Ответы на которые рыбакам известны — хотя они и переглядываются в изумлении, — а когда юноша скрывается, немногие христиане в растерянности осеняют себя крестом, словно их посетило сверхъестественное существо.