На платформе, на рельсах, в лужах нефти — всюду валялись и плавали листки, сброшенные самолетом.
Бобанов подошел к кучке бойцов, сбившихся вокруг казака; сдвинув фуражку на круглый затылок, казак бойко, с белозубой усмешкой читал воззвание вслух. Голос у него был медный, и сам он весь был медный, литой, красавчик и силач.
Он читал скороговоркой:
— «…командованию также известно, что у вас нет ни провианта, ни фуража, ни патронов… Что вас ждет? Смерть от голода и болезней… Бросайте винтовки, переходите к нам. У нас белый хлеб, и мясо, и чай, и табак…»
— Да порви ты, — раздался из толпы злобный голос, — будет зубы-то чесать!
— Вот белый гад, гадюка, норовит не про что-нибудь — про хле-еб! Бьет по самому нежному месту!
— Жалко, не сцарапал я эту птицу с неба!
— Белый, говорит, хлеб, мясо да китайская травка… Испытал я эту травку на своей спине!
Здесь в толпу, расталкивая людей, вошел коренастый мужик в розовой сарпинковой рубахе, подстриженный в скобку, с буйной бородой, отливающей золотом. Бурые щеки его были так гладки, что в них можно было глядеться, как в чайные чашки. Ладонью он раскидал людей, вырвал у казака листок и, зажав его пальцами, высоко вскинул и потряс рукой. Толстые губы шлепали одна о другую.
Он повернулся на босых ногах, оттеснив казака, вытаращил глаза и сказал шепотом:
— Товарищи партизаны и стрелки, что жа? Рвет меня с голоду спереду и сзаду, во всех селениях скотину перевели, сынишки и дочки землю жуют… как черви… что жа? Комиссарам-то хорошо кричать, они, должно быть, евши. Братики, солдатики, погибать нам, как жа? Что жа?
Казак схватил мужика за ворот рубахи, спросил пострашневшим голосом:
— Чей такой?
Закричали:
— Да пусти ты его! Помни не сильно и пусти!
Но толпа раздалась, давая дорогу четырем старикам, до странности друг на друга похожим. Все четверо были в одинаковых портах, пошитых из мешковины, в таких же рубашках, и одинаковые желто-белые бороды свисали с их лиловых, иссохших щек. За плечами у них торчали винтовки без штыков.
Передний тусклыми голубыми глазами повел по толпе, сказал тихо:
— Знаком нам этот химик, отдайте его нам.
— Ну-ну, кто он такой?
— Ты не пытай меня, как его имя, — проговорил старик все так же тихо, — а пытай, сколько земли у него есть и сколько скотины. Отдайте его нам.
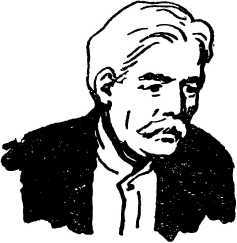
Не дожидаясь ответа, они окружили рыжего мужика, задний толкнул его в спину, и мужик покорно, как лошадь, поплелся вместе с ними.
Впятером они прошли вдоль платформы, спустились по лесенке на пути и, перешагивая через рельсы, высоко поднимая ноги, направились за сигнальную будку.
Уже вблизи будки рыжий мужик снял шапку и перекрестился. Он хотел закричать, рванулся было, но так и остался стоять с пальцами, собранными в персть.
И опять задний толкнул его в спину, и они пошли дальше, пока не скрылись из глаз за будкой.
Спустя минуту Бобанов услышал разрозненный залп.
Он спросил соседа:
— Кто такие старики?
Ему ответили с уважением:
— Здешние партизаны, знаменитые братья Медведевы.
Так жили и работали машинисты на станции Котельниково, а война все ближе. И вот однажды поутру к платформе подошел бронепоезд «Большевик Черноморско-Кубанской республики». Он составлен был из паровоза, обшитого броней, блиндированного вагона с бойницами и платформы, груженной фугасами.
Сейчас же по станции распространился слух, что бронепоезд идет в бой и что среди машинистов будут вызывать охотников.
Действительно, командир бронепоезда позвал к себе Бобанова. Несмотря на погожие дни, на командире была кожаная куртка, бинокль болтался на его широкой груди на ремешке, перекинутом через шею.

Он сказал, что бронепоезд привел из Царицына неопытный машинист, мальчишка, что мальчишка этот в бою наложит в штаны. Рассказывают, в Котельникове есть три машиниста, все трое, говорят, винтовые парни. Что за машинисты?
Бобанов ответил:
— Машинисты эти — мы: Шемша, Малай и я, Бобанов.
Начальник сказал, чтобы собирались все трое, чтобы брали с собой винтовки, револьверы, ручные гранаты, если есть. Будет жарко.
«Большевик Черноморско-Кубанской республики» шел на станцию Куберле — закладывать фугасы на полотне дороги.
Бобанов отправился в дежурку будить своих. Шемша, вытянув ноги в опрятных портянках, спал неслышно, как дитя. Малай, закутав голову в рубаху, стонал и стучал коленками.
— Ты чего? — спросил Бобанов.

Не снимая с головы рубахи, Малай промычал:
— Горю, как куст.
— Захворал, что ли?
— Ой, товарищ, сыпняк у меня! Бредю. Ходят по мне воши.
— Не скули. Отправлю в Царицын на летучке, если не врешь.
Бобанов разбудил Шемшу. Старик медленно оделся, выдвинул из-под кровати сундучок, вынул из него чистое полотенце, зеркальце, крохотный обмылок в розовой бумажке с нарисованной красавицей. Он подошел к окну, загородив его своими атлетическими плечами, и помолился на галок, сидящих на черной крыше депо.
После этого они пошли на блиндированный паровоз «Большевик Черноморско-Кубанской республики», чтобы вести поезд на Куберле, в гнездо белых.
Паровоз шел в хвосте, толкая платформу с фугасами и блиндированный вагон. Стоя на правом крыле, Бобанов чувствовал мощный, выверенный и уверенный ход машины. Такие паровозы в мирное время водили сибирские экспрессы. Шемша, чистенько причесанный, умытый, стоял у регулятора, в стекле манометра отражалось его лицо.
Они в первый раз шли в бой.
Командир сидел на полу, по-татарски сложив ноги, и поминутно сквозь стук и гром хода кричал в телефон:
— Слышишь меня, Матвей? Хорошо слышишь меня?
На десятом километре убавили скорость.
— Следи за полотном, Матвей! — кричал командир в трубку. — Следи… а?.. а?.. следи за местностью!
И оттого, что Бобанов в первый раз шел в бой, его охватило светлое, братское чувство доверия к боевому человеку в кожаной куртке, и он понял, что будет повиноваться каждому его слову, не рассуждая.
Из трубы паровоза летел белый дым, падал на степь, виснул на проводах, окуривал телеграфные столбы, цеплялся за усы ковыля. Он был легок и летуч, и такая же легкость вдруг родилась в Бобанове, он стал легок и летуч, как дым, и перестал чувствовать свое тело.
Он слышал, что в бою рождаются остервенение, злость, туманом застилающая глаза, и так же сполна поверил в это, как за минуту перед тем поверил в командира.
Он глядел на затылок Шемши с бледным пятном лысины посреди белых волос. В первый раз он заметил на раковинах ушей Шемши белый жесткий пух.
И он подумал какой-то детски нелогичной мыслью:
«Ведь ты на смерть идешь, папаша, а у тебя пух растет… Как же ты — на смерть с пухом-то этим?»
Еще он вспомнил старуху Шемши, оставшуюся на Украине, старую, розовую, в черном очипке и валяной обуви, потому что у нее всегда болели ноги, их хату с белыми до голубизны стенами неподалеку от депо и аиста, живущего на их кровле, и деревянный треск его клюва.
Какая необоримая сила вынула тебя из этого рассчитанного и мерного жития, палаша?
Какой огонь ожег твои пятки, что ты выскочил из хаты, как на пожаре, кинул старуху, позабыл оглянуться на аиста и пошел, и пошел, как молодой, чертолесить по фронтам, заглядывая в самые зрачки смерти?
Позвала, потянула внутренняя сила, и ты пошел. И ты пошел, папаша, харкая кровью, служить звезде, о которой всегда была твоя думка.
Эта думка о звезде!
Ее носит в своем сердце кожаный человек, что сидит на полу, сотрясаясь от хода паровоза. И у тех голодных ребят в вшивых шинелях, в фабричных спинжачках, что, не пивши, не евши, не спавши, ломят на фронты, и у тех бородатых братьев Медведевых, знаменитых, беспощадных, — у всех она есть, эта заветная, тугая думка о звезде.