— Вот тебе и ответ, — сказал Березкин. — Улучив момент, каменщик разобрал часть стены, помог Пересвету бежать, а затем вновь заложил отверстие и замазал щели, чтобы не вызвать подозрений… Конечно, ему помогал Владислав… А Константин Иванович до конца дней своих был уверен, что расправился с поэтом.
— Можете гордиться своим коллегой, — сказал я Басову. — Он был настоящим человеком. Березкин посмотрел на часы:
— По-моему, пора.
Последний раз спустились мы в подземелье и бережно извлекли из тайника полуистлевшие листы. Они оказались берестой со слабо различимыми следами отдельных букв.
Увы-время погубило текст, и даже хроноскоп ничем не смог помочь: на экране, правда, возникали то буквы, то даже целые слоги, но составить их в слова хроноскопу не удавалось…
Пожалуй, я не испытывал еще подобного разочарования, а на Луку Матвеевича было жалко смотреть… Березкин, нервничая, ставил перед хроноскопом все новые и новые задачи, но открытие, к великому нашему сожалению, не состоялось…
Немалая собранность, внутренняя дисциплинированность потребовались от Березкина, чтобы переключиться на другое: он поставил перед хроноскопом задачу выяснить, один человек или разные люди выбивали монограмму и писали на бересте…
Имелись, разумеется, существенные различия между работой зубилом и работой гусиным пером, и Березкину пришлось помудрить над формулировками задания. Но, в конечном итоге, хроноскоп дал положительный ответ: да, один и тот же человек, и мы вслух назвали его — Пересвет.
Хроноскоп воспроизвел нам его облик-восстановил по почерку. Так, заканчивая сложное расследование, мы увидели нашего главного героя, человека, если верить хроноскопу, гармонично сочетавшего в себе мягкость и суровость, грубость воина и большую нежность поэта…
Гимн свободе, сложенный Пересветом в темнице, не дошел до нас. Но разве другие поэты не продолжили его песнь?
— Не знаю, найдется ли когда-нибудь «Слово» Пересвета, — сказал я совсем приунывшему Луке Матвеевичу, — но если и найдется, то не в Белозерске.
— Отдайте мне хоть листочки Пересветовы, — попросил Лука Матвеевич, и я молча протянул ему куски бересты.
— Ну вот, жил-жил ты своей мечтой, а она-прахом обернулась, — не без грусти сказал Локтев.
— И все же — была мечта! — Лука Матвеевич бережно упаковывал драгоценные для него лоскуты. — Да и не кончилась она. Мечты-они не кончаются.
…Березкин отбыл в Москву на вертолете, а я решил проплыть на теплоходе от Белозерска до Череповца, посмотреть на северные края, на северные реки.
В день моего отъезда резко похолодало; шел дождь, дул сильный ветер. Озеро было мутным, в белых гребнях. Волны его-невысокие, тяжелые от песка-гасли на мелководье, не достигая дамбы, отделяющей канал. Там, на дамбе, высился серый обелиск над чьей-то братской могилой, стояли бревенчатые домики с петушками на крышах, росли исхлестанные дождями и ветрами деревья…
Я смотрел на братскую могилу и думал о Пересвете, о Владиславе, о каменщике… Нет, я не отказывался от своих прежних суждений о поэтах, каменщиках, оружейниках. Но сейчас я думал о другом: в трудные эпохи, в годы произвола они объединялись. Не всегда открыто, не всегда явно, и все же не раз выступали они в едином строю.
Впрочем, могло ли быть иначе?..
К вечеру, миновав шлюз с поэтичным названием «Чайка», теплоход вышел из Белозерского канала в Шексну.
Дождь продолжал моросить, падали редкие серые хлопья снега, но я не уходил с верхней палубы и любовался широко разлившейся рекою, невысокими холмами с деревнями, буйными зарослями нежно-золотистого ивняка и цветущей черемухи… В сумерках открылся нам Горицкий монастырь. Навсегда уже отзвонили в нем колокола, — лишь белое здание по-прежнему высилось на холме, — я у меня почему-то возникло ощущение покоя, простора и света, и думалось о людях, некогда живших здесь, и еще об обманчивости этого самого ощущения покоя. Не было его, покоя, хотя так хотелось верить в вечную тишину, в вечный покой, глядя на растворяющиеся в сумерках очертания монастыря, на тихую широкую Шексну… Сложная, трудная, богатая событиями жизнь бурлила по берегам спокойных северных рек, — и разве не свидетельство тому судьба Пересвета и Владислава, двух братьев, связанных вечной дружбой, судьба каменщика, наконец?
Когда-нибудь, мечтал я, без всякой предварительной подготовки высадимся мы с Березкиным в каком-нибудь древнем захолустном местечке и поколдуем с хроноскопом на его погостах, в разваливающихся старинных церквах, и забытые люди яркой неповторимой судьбы непременно воскреснут, пройдут перед нами…
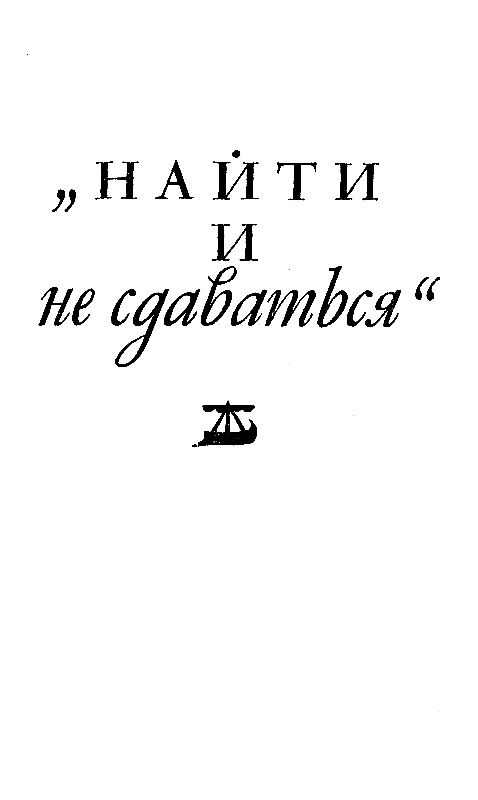

«НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ»
Глава первая
в которой сообщаются детали, относящиеся к истории исследования Антарктиды, а также выясняется, что не только хроноскоп, но и хроноскописты имеют в глазах людей некоторую самостоятельную ценность
Весною, в конце марта, в Париже проходила Международная конференция специалистов по счетно-решающим устройствам, и Березкин получил приглашение участвовать в ее работе. Очевидно, из вежливости пригласили и меня. Заранее отлично представляя себе, что я ровным счетом ничего там не пойму, я все-таки увязался с Березкиным, потому что мне хотелось, воспользовавшись случаем, посмотреть Париж
— Хорошо, смотри, — сказал Березкин — Но старайся не попадаться на глаза кибернетикам
Итак, вылетев с Внуковского аэродрома на ТУ-104, мы через положенные три с половиной часа приземлились в Париже, в аэропорту Бурже, и нас разместили в отеле «Коммодор», что стоит в центре города на Османовском бульваре
Березкин тотчас исчез из номера, и потом мы вообще встречались только поздно вечером.
По-моему, я трудился в музеях не менее напряженно, чем Березкин на своей конференции, и позволял себе лишь одну небольшую роскошь: вставал по утрам чуть позже, чем он.
Утром и застал меня звонок из нашего посольства, мне сообщили, что некто Анри Вийон просит помочь ему встретиться со мною или с Березкиным.
Я заехал в посольство и прочитал письмо Анри Вийона, в котором он писал, что в его распоряжении находятся дневники русского полярного исследователя Александра Щербатова. Анри Вийон просил встречи с нами, чтобы рассказать о некоторых подробностях дела.
У меня плохая память на имена, и сам я, при всем желании, не смог бы назвать все фамилии даже тех русских полярных исследователей, которых упоминал в собственных книгах. Но-тут уже вступают в силу какие-то свои законы — я могу безошибочно сказать, встречал ли когда-нибудь названное мне имя.
Имени Александра Щербатова я не встречал ни разу.
— Вийон был одним из руководителей французской антарктической экспедиции, работавшей по программе Международного геофизического года, — сказал мне сотрудник посольства. — Не прояснит ли это вам что-нибудь?
Я лишь молча покачал головой: до первой советской антарктической экспедиции в Антарктиде побывал только один русский-Александр Степанович Кучин, гидрограф, участник экспедиции Амундсена на «Фраме».
— У Анри Вийона давние связи с нашими полярниками, — сказал сотрудник посольства. — Но почему он не захотел переслать дневники прямо в их адрес, я не знаю. Наверное, ему нужен хроноскоп.
Сотрудник посольства при мне позвонил Анри Вийону, и тот любезно согласился заехать за мною в отель.
Ровно в пять часов меня по телефону пригласили в вестибюль, и я увидел там невысокого человека с седыми висками, тонким смуглым, иссеченным густыми морщинами лицом. Для марта он был одет, пожалуй, слишком легко — в летний светлый макинтош.
— Рад вас видеть, мсье Вербинин, — сказал Анри Вийон, делая ударение на последнем слоге и резким движением протягивая мне небольшую крепкую руку.