Будучи убежденным врагом крамолы, Серебрякова исполняла свои обязанности идейно, мало интересуясь денежным вознаграждением и совершенно тайно от своих родных. В силу принятых на себя добровольно обязанностей по содействию правительству в борьбе с революционным движением, Серебрякова вынуждена была мириться с тем, что ее дети, встречая в доме матери людей революционного направления, невольно сами заражались их убеждениями, и ей приходилось нравственно страдать ввиду невозможности уберечь своих детей от опасности увлечения революционными идеями и связанной с этим совершенной шаткостью всей их жизненной карьеры.
Несмотря на то что Серебрякова в течение всей своей продолжительной службы, полной тревог и нервного напряжения, отличалась исключительными способностями, находчивостью и осторожностью, старому эмигранту-народовольцу Бурцеву, в силу особых обстоятельств последнего времени, в октябре 1909 года удалось разоблачить и предать широкой огласке ее деятельность, благодаря чему Серебрякова была оставлена на произвол судьбы своим мужем и детьми, удалена со службы из Московской губернской земской управы и, таким образом, лишилась единственного средства к существованию.
Все последние удары жизни настолько расстроили еще ранее подорванное здоровье Серебряковой, достигшей пятидесятилетнего возраста, что она лишилась трудоспособности, в последнее же время совершенно потеряла зрение на оба глаза.
Признавая, ввиду сего, участь Анны Серебряковой заслуживающей исключительного внимания и озабочиваясь обеспечением ее старости, всеподданнейшим долгом поставлю себе повергнуть на Монаршее Вашего Императорского Величества благовоззрение ходатайство мое о Всемилостивейшем пожаловании Анне Серебряковой из секретных сумм Департамента Полиции пожизненной пенсии в размере 1200 рублей в год.
Министр внутренних дел, Статс-секретарь Столыпин.
31 января 1911 года.
На этом документе имеется следующая пометка, сделанная рукою Столыпина: «Собственною Его Императорского Величества рукою начертано „СГ“ — Согласен — в Царском Селе. Февраля 1 дня 1911 года. Статс-секретарь Столыпин».
И вот июнь 1925 года. Шумит Москва за окнами небольшого кабинета старшего следователя Московского губсуда, и я вижу шестидесятипятилетнюю, седую Серебрякову, сидящую перед столом следователя. У нее скуластое лицо, крепко сжатый рот, гладко зачесанные седые волосы, глубоко сидящие и уже ничего не видящие, мертвые глаза.
Она отвечает на вопросы следователя медленно, тихо, подумав. Она очень хорошо, как и все слепые, слышит, но часто, желая обдумать ответ на задаваемый вопрос, притворяется, что не расслышала вопроса, и медленно тянет:
— Вы, кажется, что-то спросили? Извините, не расслышала…
Она не признает себя виновной. Она знает, что восемь лет тому назад навсегда рухнул царский режим, которому она служила четверть века. Она понимает, что этот режим никогда не вернется, и поэтому хочет отмежеваться от него. Награды и пенсии из охранки? Да, она их получала, но, право, в документах явно преувеличена ее роль… На самом деле ее связь с охранкой заключалась лишь в том, что в девятисотых годах Зубатов, начиная проводить свой план легализации рабочего движения, просил давать ему сведения об отношении к этому различных общественных и литературных групп. Идея Зубатова ее увлекла, и она охотно с ним встречалась и рассказывала о впечатлениях по поводу его «легализации». Вот и все. Да, она еще иногда подбирала ему книги по истории рабочего движения на Западе…
— Вот все, что я знаю. Никого я не предавала, ничего, батюшка, знать не знаю и ведать не ведаю… А деньги мне Зубатов выхлопотал потому, что хотел доказать, что я вовсе его не одурачиваю, как думало его начальство… А из денег этих я себе только одну тысячу взяла, а остальные израсходовала на политический Красный Крест, хотите верьте, хотите нет…
— О ваших «заслугах» перед охранкой писал не один Зубатов, но и сменивший его полковник Ратко, а также сменивший Ратко фон Котен и сам Столыпин. Как вы это объясняете?
— Вы, кажется, что-то спрашиваете? Извините, не слышу…
Следователь повторяет вопрос. Серебрякова медленно жует губами, потом нехотя произносит:
— А коли они писали, так вы их и спрашивайте… Я за их писанину отвечать не могу… Хотите верьте, хотите нет…
— А вы объяснить не можете?
— Не берусь.
— Да, объяснить это трудно. Я вас понимаю, Серебрякова, — говорит следователь. — Трудное у вас положение: сказать правду не хотите, а опровергнуть документы не можете…
— Считайте как хотите. А я не признаю…
И внезапно, со злым и тупым упорством, кричит:
— Слышите, не признаю!… Не приз-на-ю!… Ясно?…
— Вполне, — отвечает следователь. — Все ясно, Серебрякова, Что ж, так и запишем, что вы все отрицаете…
— Пишите на доброе здоровье. Пишите, — почти шипит старуха.
И хотя ее, объяснения бессмысленны, отрицания нелепы, утверждения лживы, она занимает эту позицию до самого конца следствия, оставаясь до последнего своего вздоха лютым врагом всего того, что лишило ее детей, привилегий, пенсии, а главное — лишило возможности и дальше доносить, обманывать, предавать и посылать на каторгу и в тюрьмы людей, имевших несчастье ей поверить…
В этом и заключался главный смысл ее долгой, страшной и гнусной жизни, жизни ядовитой змеи.
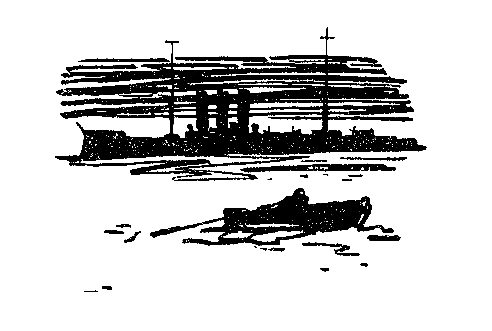
КАРЬЕРА КИРИЛЛА ЛАВРИНЕНКО
Весною 1928 года я как-то поздно засиделся в своем кабинете, в здании Ленинградского областного суда на Фонтанке, где когда-то, до революции, помещалось министерство внутренних дел. В правом крыле этого странного здания, двухэтажного по фасаду и пятиэтажного во дворе, находились кабинеты старших следователей, в которые вел длинный темный коридор с неожиданными поворотами и тупиками.
Именно в больших комнатах этого крыла некогда находилась охранка, или Третье отделение, как она именовалась. Вероятно, поэтому правое крыло здания министерства внутренних дел имело свой особый подъезд и, кроме того, выход во двор, откуда можно было пройти на Пантелеймоновскую улицу.
С главного, парадного подъезда дома начиналась роскошная мраморная лестница в два марша, ведшая на второй этаж, где в свое время была приемная и кабинет Столыпина, когда он был министром внутренних дел Российской империи.
В тот мартовский вечер, о котором идет речь, я писал обвинительное заключение по очередному делу, законченному следствием. Это было дело об убийстве на почве ревности. Обвиняемый, некто Ивановский, застреливший жену из старого «смит-вессона», не отрицал своей вины и подробно рассказал о всех перипетиях своего неудачного брака, закончившегося так трагически.
Неожиданно мне позвонил по телефону Владимиров — прокурор, наблюдавший в то время за старшими следователями.
— Здравствуй, Лев Романович, — сказал он, как всегда покашливая. — Поступило новое дело. И придется тебе, друг мой, окунуться в далекое прошлое… Словом, если не в волны Балтийского моря, то, во всяком случае, в историю Балтийского флота.
— А в чем дело? Я ведь, кажется, не моряк и не историк.
— А кем только не приходится быть нашему брату криминалисту? — резонно ответил мне Владимиров. — Тут разоблачен один старый провокатор, проваливший революционное восстание в Балтфлоте в 1906 году. Одним словом, завтра принимай арестованного… Фамилия его Лавриненко.
Наутро следующего дня я получил дело, ознакомился с ним, и в середине дня ко мне доставили арестованного. Это был пожилой человек, небольшого роста, с седенькой, клинышком, бородкой, маленькими, глубоко сидящими серыми глазами и угодливой, какой-то елейной улыбочкой.
Как только его ввели в мой кабинет, он еще с порога отвесил поклон, произнес: «Здравия желаю!» — сел на стул перед моим письменным столом и начал с любопытством рассматривать комнату.