Ни одного дома! Ни одного дома из тех, что будут стоять потом, но все-таки это ты, без сомнения. Быть может, у каждой улицы с рождения есть душа, а дома – только одежда, которую можно сменить?
В некоторых окнах уже выставлены свечки, но их слабый огонь еще не тревожит коричневатого сумрака. Вдали над подъездом какого-то особняка горят масляные фонари, там видно движение.
Я подошел. Длинный двухэтажный дом с арками и колоннами. Неярко горят высокие полукруглые окна.
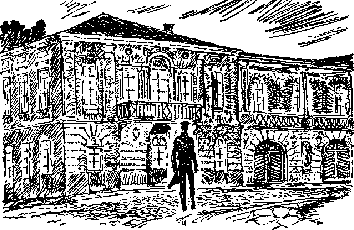
Внезапно я остановился. Не может быть! Дом возле Академии! Неужели? У Академии художеств, что на Кропоткинской! Вот галереи с обеих сторон, ажурные балконы. Вот ниши и арки, только сквозные. Потом их, видно, заделали, остались одни профили. Да, это он! Его стройная осанка, его многоколонный фасад. Так он сохранится?..
У этого дома, у Академии художеств, на той далекой во времени Кропоткинской мы часто встречались с Наташей. Она жила в двух шагах отсюда. В двух шагах, в полутора веках жила от меня Наташа…
Вот я перебегаю улицу. Она стоит, прислонившись к стене, с раскрытой книгой. Я бегу, перебегаю улицу, машина проскальзывает мимо. Из-под упавшей на глаза пряди она быстрым взглядом ловит меня, откинувшегося от машины…
Я подхожу. Она закрывает книгу. Видно, и не читала ее, а так, просто держала, чтобы не выглядеть праздной на этой бегущей полуденной улице.
– Опаздываешь? – говорит она. – Никогда не приходишь вовремя.
Она торопливо сует книгу в сумку, встряхивает головой, откидывая со лба веер выгоревших волос, и все ее загорелое лицо оживленно волнуется.
Мы беремся за руки и переходим улицу. Опять набегает машина. Наташа держит меня, не отпуская, хотя проскочить еще можно. Я стою недовольный. А она говорит с укором:
– Всегда ты бежишь под машины.
– Но я не бегу под машины!
– Ты так перебегал улицу, что у меня сердце упало.
– Вот чепуха! – Я сержусь.
Она все-таки держит меня, пока не проедет последняя, самая дальняя машина.
Мы наконец переходим, и вдруг на мгновение я ощущаю себя хрупким, быть может, дорогим сосудом, который вот так осторожно и тихо несет чья-то бережная рука. Странное, щемящее чувство…
Стою зачарованный воспоминанием. В ладони возрождается ощущение ее руки, маленькой, теплой, обладающей магнетической силой. Неужели все это было? Июльский полдень, горячий мягкий асфальт, машины, скользящие мимо с липким шорохом, ее рука в моей и мерный гул огромного города…
Теперь тишина. Я смотрел на скромные огни масляных фонарей и думал о некой связи, быть может, единстве двух моих судеб, в каждой из которых лицо девушки, и лицо этого дома, и множество других смутно знакомых лиц, и, наконец, этот город, эта земля и небо – все близкое и знакомое, хотя и не узнанное еще до конца…
У подъезда стояло несколько экипажей, двери распахнуты. Подкатила еще коляска, вышли два офицера. Один сказал довольно громко:
– У князя такой балкон вместо челюсти, что непонятно, зачем ему балконы на особняке.
Другой хохотнул, и они скрылись в подъезде.
Стало быть, это и есть дом Долгорукова по прозвищу «балкон»? Впрочем, я мог бы догадаться и раньше. Фальковский приказал ехать на Пречистенку, но только у одного дома на улице чувствовалось оживление. Значит, ужин здесь. И здесь поджидает меня Ростопчин.
Я не собирался прятаться. Эмалевый медальон и воспоминания влекли меня в дом на Пречистенке.
У дверей встретил лакей в темно-красной ливрее с золотым позументом.
– Пожалуйте, – сказал он глухим басом.
– Много народу? – спросил я, снимая фуражку.
– Какой там. – Он принял фуражку. – Тихий бал-с. Господ сорок от силы-с.
– А граф Ростопчин?
– Еще не прибыли, но ожидают-с.
Я отстегнул ташку и постоял перед огромным зеркалом. Снимают ли ментик? Судя по спокойствию лакея, который уже занял свой стульчик, нет. Я оглядел себя. Черный в красных шнурах доломан, алая подкладка ментика, серебряные эполеты. Лицо усталое, сапоги пыльные.
Я хотел попросить щетку, но швейцар уже застыл в полудреме. Вздрагивали седые баки.
Потоптавшись немного, я стал подниматься по лестнице, выложенной зеленым ковром. Освещение скудное. Всего по одной свече в деревянных тройниках, редко повешенных на стене. В нишах притаились статуи.
Я шел, придумывая, как представиться, и зная, что в домах «допожарной» Москвы гостей принимали без церемоний, даже незнакомых. Военного мундира для рекомендации было достаточно.
Но «прием» превзошел мои ожидания. На меня попросту не обращали внимания. Я прошел несколько едва освещенных комнат. На диванах курили длинные трубки, распевали песни. Пробежала горничная в зеленом переднике с большим фарфоровым чайником на подносе. Проковылял маленький старичок в белых чулках. Он вскинул голову и уничтожающе посмотрел на меня. Я поклонился. Быть может, хозяин? Тогда в полутьме я не разглядел его знаменитой челюсти.
Наконец я попал в залу. Здесь посветлей. Оранжевые шторы, портреты на мраморных стенах, скользкий мозаичный пол, в глубине сцена для музыкантов. Две люстры озаряли гроздьями свеч.
Горстками стояли несколько человек, все больше пожилые. В одном углу бело-розовым букетом собрались дамы. Там смеялись.
Я сделал несколько шагов, туда, сюда. На меня покосились, но разговор продолжался.
– Да-с! – говорил кто-то в темном сюртуке. – Только постное! Когда отечество горит, сладости в рот не лезут!
– Да бросьте вы, батюшка, – отмахнулся другой. – Горит, горит! Не в кухне же у вас подгорает, ешьте себе на здоровье.
– Бахметьев обед с семи до пяти блюд убавил.
– Лучше бы ополченцев нарядил.
– Если Москву оставлять, дом свой подожгу, знайте! – громче всех говорил «темный сюртук».
– Да откуда вы, батюшка, такой патриот взялись?
– Я не успокоюсь, пока не искупаюсь в крови французов! – распалялся «сюртук».
От бело-розового букета отделился офицер в белом кавалергардском мундире и быстро пошел ко мне.
– Да! – сказал он. – Вы здесь! Наверное, графа ждете?
Я узнал адъютанта Ростопчина. Только выглядел он сейчас веселым и юным, не то что в приемной. Он разглядывал меня с легким удивлением и как бы удовольствием.
– Да вы, оказывается, гусар! Какого полка, не пойму?
– Особого, – сказал я с шутливой серьезностью. – Даже не спрашивайте.
– Вы правы, столько полков сейчас новых, я уж запутался. Пойдемте, познакомлю avec des dames charmantes. (С прекрасными дамами (франц.)) Ведь вы из армии, им будет приятно. Постойте, я прежде вам расскажу. Вот эта справа – Анетте Трубецкая, весьма хорошенькая, но у нее жених, этот болван Сибаев, не слышали? Вон та в розовом платье – Катрин Пушкина, миленькая, но дурочка. А вон ту, Софи Нелединскую, вам очень советую. Эти? Ну, с ними разговор короткий. Лепешки. Так их все и зовут – княжны-лепешки. Это за то, что целыми вечерами они у себя в окнах торчат, прохожих разглядывают...
Он быстро и доверительно описывал достоинства и недостатки знакомых дам, а я только мог заключить, что Ростопчин не посвятил его в свои замыслы. Больше того, адъютант, видимо, считал, что граф проявил ко мне особое расположение. Иначе почему он так охотно взялся за мою опеку?
– Это лучшее, что осталось, – говорил адъютант. – Так сказать fine fleur (Сливки (франц.)) нашего оскудевшего света. Остальные давно разъехались. Ах, если бы вы застали княжну Масальскую! Увы, опустела Москва. Ну, пойдемте, пойдемте. Да вы не стесняйтесь, там все молодые. По-французски старайтесь не говорить, у нас штраф...
Мы подошли.
– Поручик Берестов, рыцарь легкой кавалерии! – провозгласил адъютант. – Между прочим, особого полка!
– Какого же? – спросила темноволосая девушка в розовом платье туникой.
– Прекрасный кавалергард преувеличивает, – отшутился я.
– Какой он кавалергард, он просто Ванечка, – сказала девушка с пышными рукавами, похожими на белые шары.