Остаток дня Шустер проводит в тире, оборудованном для офицеров абвера в подвале отеля. Твердой рукой он посылает пули в сердце фанерного красноармейца. Мишень трещит, дырочки наползают одна на одну. Расстреляв три обоймы, Шустер подсчитывает: восемнадцать попаданий! Жаль, что мишень слишком велика, чтобы взять ее на память. Идея только тогда приносит плоды своему автору, когда своевременно попадает к тем, от кого зависит решение.
До 21.10 Шустер свободен. Ужин ему приносят в кабинет и, запивая паштет молоком, он, не торопясь, просматривает бумаги. Берлин подхлестывает, понукает, требует активности. Специалисты из абвера с помощью полученного наконец ключа расшифровали не меньше пятидесяти радиограмм, отправленных до сентября в Центр и из Центра. Некоторые из них генерал фон Бентивеньи цитирует в письме с приказом усилить темп поисков ПТХ. Шустер с профессиональным интересом прочитывает их. «Марату от Профессора. Проверьте, действительно ли Гудериан находится на Восточном фронте, подчинены ли ему 2-я и 3-я армии? Преобразовывается ли 4-я танковая армия в армейскую группу под командованием Моделя? Входят ли в состав этой группы другие армии? Какие армии предполагается ввести в ее состав? Конец. N 921». Паштет попадает в дупло, и зуб мгновенно начинает ныть. Шустер ковыряет в дупле спичкой, но не отрывает взгляда от письма. «Марату от Профессора. Соответствует ли действительности, что 7-я танковая дивизия ушла из Франции? Куда? Когда прибыл в Шербург штаб новой дивизии? Ее номер? Конец. N 922». Третья радиограмма совсем короткая: «Срочно доложите все о формируемой во Франции 26-й танковой дивизии». Русский Генштаб запрашивает своих людей так, будто держит под надзором все планы ОКВ. В конце письма фон Бентивеньи содержится прямой намек, что о ПТХ стало известно ставке фюрера. Неужели Канарис был так неосторожен, что доложил дело Кейтелю?
Зуб ноет уже не на шутку. Шустер полощет его теплым молоком, кончиком спички заталкивает в дупло крошку аспирина. Единственное, чего ему сейчас не хватает, так это флюса! Лаская вздувающуюся щеку, Шустер звонит Моделю и рассказывает ему о Мильмане. Модель настроен легкомысленно:
— Мы не монахи, и наши солдаты тоже!
Шустер перебивает:
— Не забывайте о СД!
— Что вы предлагаете?
Тон Моделя теперь официален до предела.
— Откомандировать Мильмана.
— Я подумаю.
— Тогда — все…
Для страховки Шустер записывает разговор в служебный дневник. Этим самым он в известной мере снимает с себя ответственность за последствия. К сожалению, у него нет дяди-фельдмаршала и приходится самому заботиться о своем будущем.
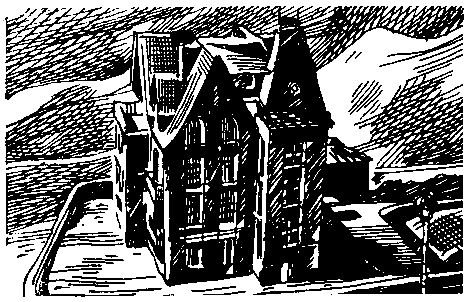
2. Октябрь, 1942. Давос, пансион «Лакфиоль»
Осень изматывающе тягостна, и Роз чувствует себя одинокой и беззащитной в недорогом пансионе, где плохо топят и в столовой царит ледяная стужа. Почти два месяца Роз живет среди почтенных старушек, коротающих дни за вязанием и разговорами о недугах. Люди помоложе предпочитают отели с горячей водой и баром, но комната в отеле Роз не по карману.
Первую неделю было еще ничего. Роз даже радовалась одиночеству и тишине. Никто не вторгался в ее быт, не донимал расспросами; старушки, сойдясь в столовой на завтрак или обед, называли ее «милочкой» и не пытались вовлечь в беседу о подагре и атеросклерозе. Роз думала о Жане, об обещанной Вальтером рации и приглядывалась, подыскивая место, где могла бы прятать передатчик. О том, чтобы держать его в пансионе, не могло быть и речи: в нищенски обставленных комнатах негде было оборудовать тайник. Роз на всякий случай осмотрела кухню и кладовую, тесные, как почтовые ящики, и отбросила мысль об их использовании. В конце концов она нашла то, что нужно: в соседнем пансионе почти за бесценок сдавалась студия, и Роз сняла ее, уплатив за полгода вперед. После этого она написала в Цюрих и обратной почтой получила краски, угли и холст. Этюдник, оставленный предшественником, ей уступила по сходной цене владелица студии.
Рисовать Роз не умела, эскизы ее были дики и фантастичны по беспомощности, но здесь никто ничему не удивлялся. К счастью, Роз не стала копировать картинки из журналов, что разоблачило бы ее; она вольничала с натурой, а владелица студии за долгие годы общения с художниками смирилась с их манерой превращать реальные вещи черт знает во что и скорее удивилась бы, нарисуй Роз горы такими, какие они есть.
Знакомых немцев в Давосе уже не было; попытки заговаривать с ней во время прогулок Роз пресекала; день тянулся за днем, отличаясь от других только погодой и обеденным меню. В отеле был телефон, и Роз едва сдерживалась, чтобы не позвонить Жану. Однажды она наменяла пригоршню мелочи и вызвала Женеву, но, услышав голос телефонистки, бросила трубку.
В студии было сколько угодно укромных местечек — ниш, антресолей, стенных шкафчиков; Роз очистила от пыли нишу за кафельной печью и замаскировала ее, как могла.
В конце первой недели на прогулке ее остановил угрюмый маленький господин в потерявшей форму тирольской шляпе и назвал пароль. Говорил он с сильным немецким акцентом и был немногословен.
— Приказано передать, что посылку и письма вы получите через меня.
— А что в посылке? — спросила Роз.
— Не интересуюсь, — отрезал связной. — Она большая, и я принесу ее по частям. В следующий раз захватите рюкзак — здесь многие собирают образцы камней.
Роз поглядела на него сверху вниз: связной показался ей забавным в своем стремлении соблюдать полную конспирацию. Они были двое на тропе, и их никто не мог подслушать.
В посылке, как и следовало ожидать, оказались части рации. Роз перенесла их в студию, а связной прекратил встречи ровно на тот срок, который требовался для сбора передатчика. Из осторожности Роз паяла понемногу: запах горелой канифоли мог привлечь внимание хозяйки.
Первый сеанс Роз провела через две недели после приезда в Давос. Слышимость была неважная, и Роз дольше обычного просидела на ключе. Центр подтвердил «квитанцией» прием, но сам ничего не передал, дав повод Роз подумать, что Вальтер, по всей видимости, намерен использовать ее только на односторонней связи. К слову, и сообщение, доставленное связным, было уже зашифровано, и не тем шифром, которым она пользовалась в Женеве.
При встрече Роз не сдержалась и спросила связного:
— Мне не доверяют?
Связной сделал удивленное лицо:
— Простите, фройлейн, о чем вы?
Но Роз и сама поняла, что заговорила зря. Что мог знать этот человек о намерениях Ширвиндта?
— Забудьте о моем вопросе.
— Уже забыл! — сказал связной.
Он вообще не отличался разговорчивостью. Не назвал даже своего имени.
— Какая разница, фройлейн, Шварц или Вейс?
— Или Грюн? — в тон сказала Роз. — Вы правы, никакой разницы. Я буду звать вас Грюн. Подойдет?
— Все равно…
Обдумывая этот разговор, Роз еще острее почувствовала свое одиночество. Грюн — единственный, кто связывает ее с друзьями, и связь эта кажется почти призрачной: Грюн исчезает и появляется, когда хочет, не уславливаясь о новой встрече, — он только просит ее не менять маршрут утренних прогулок.
У старушек Роз выучилась вязанию. Это успокаивает, и она вяжет даже в студии, сделала себе шапочку и лыжный свитер из белой шерсти. Днем она ходит на почту за газетами, а вечером читает — Дюма, Дос-Пасоса, Кафку, Тургенева, все, что попадается под руку. В комнате прочно угнездилась горная сырость, и Роз засыпает на влажных простынях.
Жильцы в пансионе почти не меняются. Загнанные сюда безденежьем и войной, они живут, как в лепрозории, отрезанные горами от всего мира. Хозяйка разводит кошек, и те заполняют весь дом, кричат по ночам страшными голосами, будя Роз и заставляя ее вздрагивать.
Роз послала Ширвиндту письмо и получила ответ со связным. Ширвиндт просил ее потерпеть и постараться привыкнуть. «Я бы хотел, — писал он, — чтобы ты почаще думала о Сталинграде. Мне кажется, это будет хорошим лекарством от неподходящих мыслей и чувств». Роз купила маленький приемник, ловила Берлин и Рим. Одно и то же! Дикторы называют Сталинград последней твердыней большевизма и считают дни, оставшиеся до полного военного и политического разгрома России. Возносят до небес героев — генералов из группы армий «Б» Манштейна, Роске, Штреккера и — чаще других — фон Паулюса.