«Что же можно сделать еще? — задавал он себе вопрос и отвечал: — Надо искать новые схемы». Сергей Павлович предлагал попробовать комбинированные и составные ракеты. «Большая ракета, — пояснял он, — имеет на себе меньшую до высоты, скажем, 5000 метров. Далее эта ракета поднимает еще более меньшую на высоту 12 000 метров, и, наконец, эта третья ракета или четвертая по счету уже свободно летит на несколько десятков километров вверх».
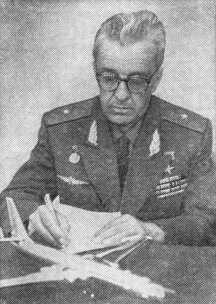
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии генерал- майор-инженер В. М. Мясищев.
Выдвинул он и другое предложение: «Возможно, будет выгодным подниматься вверх без крыльев, а для спуска и горизонтального полета выпускать из корпуса ракеты плоскости, которые развивали бы подъемную силу».
Дальше он вновь и вновь повторяет: «Самое основное — это надо не только совершенствовать двигатель и его агрегаты, но и искать новые схемы и применять новые топлива».
Листая материалы конференции, на которой выступал Сергей Павлович, читая сборники статей по ракетам того времени, видишь, что не он один занимался проблемой ракетных аппаратов. В. И. Дудаков, например, анализировал взлет с ракетными ускорителями, В. П. Ветчинкин разбирал характеристики вертикального полета аппарата.
Но в выступлении Королева было свое, отличавшее его от других. Он остро чувствовал злобу дня, самое насущное в ракетных делах и умел доступно и ясно сказать об этом даже неспециалистам. В своих теоретических трудах он выступает не просто исследователем, а пропагандистом идей ракетного летания и организатором борьбы за их скорейшее осуществление.
И в докладе на конференции, и в статье в журнале «Техника Воздушного Флота» Сергей Павлович из своих расчетов сделал практический вывод: надо строить ракетоплан-лабораторию. При этом Сергей Павлович ссылался на опыт ГИРДа, занимавшегося установкой ракетного двигателя на аппарат для полетов экспериментального характера. Докладчик показал чертеж, на котором был изображен планер, построенный инженером Черановским для ГИРДа в 1932 году. «Планер был рассчитан, — пояснил Королев, — под опытный двигатель системы инженера Цандера. Несовершенство двигателя не позволило произвести его испытания в полете».
Далее Сергей Павлович объяснил: «Если не задаваться установлением каких-либо особых рекордов, то, несомненно, в настоящее время уже представляет смысл постройка аппарата-лаборатории, при посредстве которой можно было бы систематически производить изучение работы различных ракетных аппаратов в воздухе.
На нем можно было бы поставить первые опыты с воздушным реактивным двигателем и целую серию иных опытов, забуксируя предварительно аппарат на нужную высоту. Потолок такого аппарата может достигнуть 9— 10 километров.
Осуществление первого ракетоплана-лаборатории для постановки ряда научных исследований в настоящее время хотя и трудная, но возможная и необходимая задача, стоящая перед советскими ракетчиками уже в текущем году».
В заключение Сергей Павлович еще раз отметил огромное значение правильного подхода к проблеме ракетного полета:
«Крылатая ракета имеет большое значение для сверхвысотного полета человека и для исследования стратосферы.
Задача дальнейшего заключается в том, чтобы упорной повседневной работой, без излишней шумихи и рекламы, так часто присущих, к сожалению, еще и до сих пор многим работам в этой области, овладеть основами ракетной техники и занять первыми высоты страто- и ионосферы. Задачей всей общественности, задачей Авиавнито и Осоавиахима является всемерное содействие в этой области, а также правильная постановка тематики по ракетному делу низовым организациям общества и отдельным изобретателям и грамотная популяризация идеи ракетного полета».
К тому времени, когда Сергей Павлович работал над проектом крылатой ракеты, относится обращение к нему популяризатора ракетных идей писателя Я. И. Перельмана с просьбой рассказать о себе и товарищах по РНИИ. 18 апреля 1935 года Сергей Павлович так ответил на эту просьбу:
«Глубокоуважаемый Яков Исидорович!
Ваша просьба поставила меня в довольно затруднительное положение, так как что, собственно, можно сказать рядовому инженеру о своей личной работе? Характеризовать работу моих товарищей по институту (Глушко, Тихонравов и др.) мне тоже не хотелось бы. Могу только сказать, что оба они очень знающие люди, глубоко преданные ракетному делу и мечтающие о будущих высоких путях наших советских ракет. Я лично работаю главным образом над полетом человека, о чем 2 марта с. г. я делал доклад на I Всесоюзной конференции по применению ракетных аппаратов для исследования стратосферы в гор. Москве…
Полагаю, что для Вашей работы он представил бы известный интерес своим изложением и выводами, тем более что весь материал оглашался впервые. Конференция решила строить в текущем году крылатую ракету-лабораторию для полетов человека на небольших высотах (до 6–8 километров). Вот сейчас и работаю над этой темой.
Очень большое значение придаю воздушным реактивным двигателям, над которыми работает Юрий Александрович Победоносцев (у нас же в РНИИ)…
РНИИ занимается полным комплексом вопросов по созданию разных ракетных летательных аппаратов, по ряду частных прикладных случаев использования ракетных двигателей плюс многочисленные побочные и сопутствующие исследования. Работаем над созданием ракетных двигателей на разных топливах; над стратосферными ракетами и над крылатыми ракетами для полета человека…»
В заключении письма к Я. И. Перельману можно найти подтверждение тому, какие заботы взвалил на свои плечи уже в то время Сергей Павлович. «Простите, — пишет он, — что заболтался я на такие общепонятные темы. Всегда буду рад получить от Вас известие о Вашей работе и, хоть и загружен я выше человеческой меры, с удовольствием отвечу Вам.
Искренне уважающий Вас
С. Королев».
Сергей Павлович назвал в письме В. П. Глушко и М. К. Тихонравова, конечно, не случайно. О работах М. К. Тихонравова по ракетной технике уже говорилось выше. Валентин Петрович Глушко был известен как талантливый конструктор ракетных двигателей. Он был на два года моложе Королева, родился в Одессе. С 1921 года Глушко заинтересовался вопросами космонавтики и пятнадцати лет вступил в переписку с К. Э. Циолковским. В шестнадцать лет он опубликовал первые научно-популярные и научные работы по космонавтике. С 1925 по 1929 год учился в Ленинградском университете, потом начал работать в газодинамической лаборатории, создал первые в СССР жидкостные ракетные двигатели. Уже в те годы Глушко предпринял чрезвычайно смелый шаг — разработал первый в мире электротермический ракетный двигатель.
Иначе как подвижничеством нельзя назвать систематическую напряженную работу Глушко над совершенствованием жидкостных ракетных двигателей. К моменту создания РНИИ он уже построил и испытал целый ряд образцов двигателей, предложил и исследовал компоненты ракетного топлива. На его творческом счету были идеи профилированного сопла, теплоизоляции камеры сгорания двуокисью циркония, химического зажигания, агрегатов для подачи компонентов.
Профессор В. П. Ветчинкин — видный ученый, соратник Н. Е. Жуковского, — побывав в Ленинграде в 1932 году на испытаниях ракетного двигателя, писал: «В ГДЛ была проведена главная часть работы для осуществления ракеты — реактивный мотор на жидком топливе… С этой стороны достижения ГДЛ (главным образом инженера В. П. Глушко) следует признать блестящими».
Двигатель конструкции В. П. Глушко Королев успешно применил на крылатых ракетах.
Познакомившись с приведенными в письме высказываниями Королева в пользу немедленного и возможно более широкого развития крылатых ракет, читатель может подумать, что все его интересы в этот период жизни были ограничены именно этими ракетами. Но Сергей Павлович смотрел шире. В подтверждение этого можно сослаться на такой факт. В том же 1935 году в РНИИ обсуждалось предложение о временном прекращении работ по бескрылым баллистическим ракетам. Руководство института склонялось в пользу этого предложения. Однако против него категорически выступил Сергей Павлович. Он, как сказано в протоколе заседания, заявил: