Переступая через трупы убитых часовых и, обходя крепко спящих невольников, запорожцы прошли два ряда рвов, перебрались через вновь воздвигаемую стену и могучим, грозным потоком разлились по городским улицам и переулкам…
Конец мирному покою… Конец ночной тишине… Вот слышатся тихие удары, и тяжелая дверь с треском летит на землю.
— Алла!.. Алла! — раздается отчаянный крик…
— Алла!.. акбар!.. — вторит ему другой голос.
Прогремел выстрел. Слышно звяканье скрестившейся стали… В окнах большого длинного дома замелькали огоньки. Очнувшиеся правоверные стреляют наудачу, стреляют зря, желая поразить невидимого врага и не причиняя ему даже беспокойства…
Вдруг заалели верхушки стройных кипарисов и пирамидальных тополей, и над ними взвилась стая перепуганных птиц. Белые птицы с окрашенными в розовый цвет крыльями метались из стороны в сторону и, окунувшись в облако черного дыма, падали, как подкошенные, в огонь… По пустынной улице пронеслась пара неоседланных лошадей; вслед за ними промчался с диким ревом буйвол, свирепо вращая огромными рогами и взрывая копытами целые тучи песку… А пожар тем временем разгорался. Ветер помогал запорожцам, перебрасывая целые горящие головни с одной постройки на другую. На улицах стало светло, как днем. Грохот выстрелов, свист пламени, отчаянные вопли женщин и детей, грозные крики запорожцев — все слилось в один общий немолчный гул.
Турецкому гарнизону трудно было бороться с запорожцами, переполнившими кривые, узкие улицы и действовавшими врассыпную. А тут еще море бушующего пламени…
Брызнули первые лучи рассвета, и зарево стадо бледнеть.
— До челнов, хлопцы!.. До челнов!.. — раздавались голоса атаманов.
Кошевой торопил своих, чтоб уйти в открытое море, пока турки не пришли в себя, и не собрались с силами. Запорожцы, отбиваясь от преследования, тащили к челнам целые тюки добычи, вели пленников; а вслед за ними спешили и невольники. Нужно было уложить, добычу и разместить весь этот народ прежде, чем турецкие галеры перережут путь.
Пока турки оправились от охватившего их страха, казаки успели нагрузиться и стащить челны с отмели. Все знали, что немало товарищей легло на турецкой земле, но подсчитывать потери было трудно. Из бухты выходили уже турецкие галеры, и по вспененным волнам со свистом запрыгала картечь.
Но с челнов отвечали смехом и шутками на грохот неприятельских пушек.
— Теперь тю-тю! Не догонишь, вражий сын! — кричали запорожцы.
— Куда твоим корытам угнаться за нашими челнами!..
— Лучше, дурню, не трать пороху понапрасну!..
Расстояние между преследующими галерами и уходящими челнами все увеличивалось, и, наконец, челны скрылись от взоров преследователей.
— Ну, и ловко ж наш батько провел нас до туров в гости! — говорили запорожцы.
Невольники смотрели на батька кошевого, как на высшее существо, и готовы были молиться своему избавителю, разбившему одним ударом тяжелые оковы.
— Теперь, дитки, встряхнем Крым, и домой пора! — объявил Сагайдачный, и лишь только его слово батька кошевого облетело челны, как все товариство закричало, заревело, просто застонало от восторга.
И понеслись острогрудые челны по вспененным волнам к подножию грозного Чатырдага, Ай-Тодора, Аю-дага; несутся они туда, где в зеленом сумраке темных кипарисов и душистых магнолий звенят и журчат серебристые фонтаны, баюкающие слух грозных ханов, где на солнцепеке еле влачит израненные ноги несчастный невольник, оторванный от семьи, от родины, от всего, что ему было дорого, мило и свято!.. Если он порой отважится затянуть родную украинскую песню, то вторить ему начнут не певучие струны бандуры, а лязг тяжелых железных цепей.
Плачут слабые, кичатся сильные и никому из них даже и не снится, что не сегодня-завтра отроги зеленых Крымских гор будут окутаны не фиолетовой полупрозрачной дымкой морского тумана, а клубами тяжелого порохового дыма, медленно ползущего к самой вершине Чатырдага.

Глава VI. Палий и Палииха
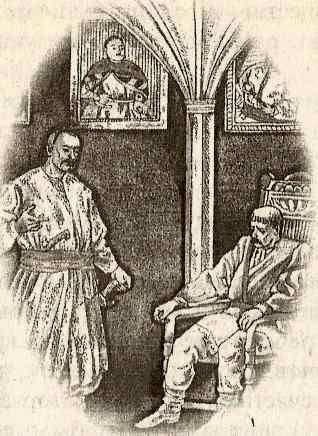
Но вот, откуда ни возьмись, набежало темное волокнистое облако, расползлось по небосклону и звезды начали гаснуть одна за другой.
Гетман, не зажигая огня, опустился на постель стараясь разобраться в отрывочных мыслях и ощущениях, накопившихся за сегодняшний день. Усиленная мозговая деятельность никогда его не смущала, и он умел легко и быстро оценить по достоинству самое сложное душевное движение; но сегодня было не то; сегодня с ним творилось неладное. Старому гетману было жутко в опочивальне. И вдруг он уснул, но не освежающим, обычным сном, нет, какая-то тяжесть внезапно придавила мозг старца. Снится ему, что на пороге выросла высокая фигура, закутанная в запорошенную снегом доху.
— Кто здесь? — шепчут побледневшие губы гетмана, и рука инстинктивно тянется под подушку за саблей.
— Не узнал меня? — раздался глухой, страшно знакомый голос. — А помнишь, гетман Украины, ты втирался ко мне в доверие? Помнишь, как ты называл себя моим слугой, а меня величал твоим единым «батьком», твоим другом закадычным? Узнаешь «батька»?.. Признал «друга», а?..
— Самойлович?! — в ужасе вскрикнул Мазепа.
— Да, это я, Иван Самойлович, бывший гетман Украины и славного войска запорожского.
— Что тебе нужно от меня?
— Ты подло, воровски украл у меня мою гетманскую булаву, ограбил мои сокровища. Твой змеиный язык оклеветал меня и довел до берегов Енисея… Но помни, Иване, что и ты не узнаешь ни радости, ни покоя.
— Старче, смилуйся! — молит гетман.
— А ты знал милость?
Вдруг Мазепу охватила дикая ярость: он сорвал со стены оправленный в золото кистень и с силой швырнул его в угол. Кистень с глухим треском впился в дверцы дубового шкафа, и гетману показалось, что в углу забрезжил алый свет. И в колеблющихся струях от света Мазепа вновь увидел безумного Самойловича в одеянии ссыльного, Самойловича, загубленного им. Увидел он целую вереницу других загубленных им соотечественников. Вот Михайло Галицкий, Леонтий Полуботок, Райча, Юрий Четвертинский, митрополит Гедеон, Солонина и много-много других украинцев, спутанных, как паутиной, ядом мазепиных доносов.
И московский грозный Приказ с мрачным застенком представился гетману. Сюда он направлял десятки своих недоброжелателей и просто соперников. Мазепа в ужасе хочет закрыть лицо руками, но ему кажется, что руки прозрачны, как стекло, и не в состоянии скрыть вереницу грозных теней.
Только перед рассветом Мазепа очнулся. Сны отлетели, и вместе с ними исчезли и видения. В окно опочивальни заглянуло утро. Охваченное багрянцем небо пылало, как в огне; на востоке разгоралась заря.
— Брр… какая ночь — выговорил с усилием, с дрожью в голосе Иван Степанович. — Боже, правый, зачем Ты дал мне в руки меч и власть, и силу?.. Зачем?! Где протекает тот чудодейственный Иордан, который очистит и омоет грехи мои?..
Гетман сегодня вышел позже обыкновенного в свою канцелярию, где уже с раннего утра, окружённый кипами бумаг, сидел писарь Орлик — самое доверенное лицо при гетманской особе.
— Что нам делать с Хвостовским полковником, ясновельможный гетман? — спросил после обычного приветствия Орлик.
— А что, он снова выкинул какую-нибудь штуку? — поинтересовался Мазепа, грузно опускаясь в большое дубовое кресло, украшенное вычурной резьбой. — Не может старый волк и месяца посидеть спокойно.
Речь шла о Палии. Было время, когда Мазепа водил дружбу и, по-видимому, дружбу искреннюю с хвастовским затворником и запорожским «лыцарем».
Но это время прошло безвозвратно. Подозрительный, черствый, властолюбивый гетман не мог быть истинным другом, всякое теплое искреннее чувство, всякое сердечное движение у него было временным, скоропреходящим, напускным.