«Дорогой папа, у нас случилось несчастье. Только ты не волнуйся, потому что, сам понимаешь, если бы несчастье было большое, мы тебя вызвали бы телеграммой. Хотя мама и больна, но она говорит, чти не особенно. Врачи считают, что недели через две она и думать об этом забудет. Вот она сидит рядом со мной и говорит, что я пишу нехорошо, потому что ты испугаешься. Она ошпарила руку».
Анюта подняла глаза к потолку и стала себе представлять, как бы это всё могло быть. Вот сидит с перевязанной рукой мама. Сейчас ей уже не больно, но повязку снимать нельзя. Она сердится на Анюту, что та напугала отца, а отец и так небось там, на Чукотке, нервничает. Он ведь не то что спокойный, а просто выдержанный. Просто умеет держать себя в руках, а сам-то волнуется очень. Анюта сама помнит: проснётся, а у отца в кабинете свет, целую ночь ходит и ходит взад и вперёд. Всё думает: вдруг ошибся, напутал, неверно решил вопрос. Всё себя проверяет, проверяет.
Анюта подумала и стала писать дальше.
«Я тебе, папа, жалуюсь на маму, — написала она, — ещё и рука не была отпарена, а она вдруг решила не ехать на Украину. Она думает, что в будущем году мы поедем вместе с тобой. У нас в районе есть очень хороший пионерский лагерь, Мишу взяли туда, и над ним поставлен чудесный мальчик Паша Севчук. Его портрет приколочен к липе, его все очень уважают».
— Анюта, — сказал вдруг Миша, который, как ей казалось, уже засыпал. — Ты знаешь, Анюта, мне нужно завтра внести в лагерь три рубля. У нас есть ещё деньги?
— Деньги есть, — сказала Анюта, — но почему надо вносить в лагерь?
— Понимаешь, Анюта, мы, оказывается, решили, то есть не мы, меня ещё не было, но всё равно ребята, что, кроме того, что мы получаем по бюджету… Ты не знаешь, что такое «бюджет»?
— Ну, это вроде государственной кассы, что ли, — сказала Анюта.
— Так вот, год от году мы должны всё улучшать и улучшать лагерь и для этого даём кто сколько может. Паша Севчук, например, дал пять рублей, ну, а я решил, что три мы можем дать. Как ты думаешь, Анюта?
— Конечно, можем, — сказала Анюта. — Всё-таки у нас и папа и мама работают. Я тебе завтра утром дам.
Миша вспотел от стыда. Если бы Анюта отказала ему, он стал бы сердиться и спорить, и ему было бы легче. А она вдруг сама согласилась. Казалось бы, хорошо, а на самом деле наоборот — неприятно.
Миша закрылся с головой одеялом и сделал вид, что спит, даже посапывал полегоньку, а Анюта продолжала писать письмо.
Вечер не торопясь шёл над городом, над районом, над кварталом. В соседнем дворе заиграла радиола — верный признак московского вечера, и кто-то сказал, наверное, что-то очень смешное, потому что несколько человек громко расхохотались и хохотали долго.
Валя вернулся домой — он ходил на рынок продавать мамино платье, натолкался, намучился, но отдал, когда предлагали двадцать рублей, а после с трудом нашёл покупателя за десятку. Всё-таки передача отцу была обеспечена. А на столе лежало письмо от отца. И тогда же, когда Анюта писала письмо отцу, Валя читал письмо от отца.
«Дорогие мои, — писал отец, — всё думаю, думаю и не могу понять, как же это так получилось со мной? Если бы знали вы, как мне перед вами стыдно… пусть Валя вспомнят, что я был когда-то другим, и дружили мы с ним, и в театр мы с ним ходили. Я всё думаю, как мы с ним были в театре — куклы представляли спектакль. Ой, Валя, Валечка, подумай, родной мой сынок: как споткнёшься, так и пошло. Не спотыкайся, Валя. Не спотыкайся!»
Не торопясь шёл вечер над городом, уже темнело за окнами, и Катя Кукушкина сидела у себя в комнате и размышляла. Она ещё и ещё раз перебирала события дня, как она делала каждый вечер: малыши нашалили. Ну, это не страшно, на то они — малыши. Наша Севчук опять проявил себя хорошо и помог Мише Лотышеву стать в лагере своим человеком. День прошёл неплохо, тревожиться не было оснований.
Уже радиолу выключили во дворе, уже совсем было темно за окнами, уже собрались жители дома спать, уже Пашина мама засунула сыну в карман курточки три рубля, а в карман Мишиной курточки засунула три рубля Анюта. Уже наплакался Валя, прочтя отцово письмо, наплакался тихо, так, чтобы мама не слышала, когда в квартире профессора Сердиченко раздался телефонный звонок. Профессор слушал и кивал головой и сказал, чтобы высылали машину, и кряхтя, ему было почти уже семьдесят лет, стал одеваться.
У больной Клавдии Алексеевны Лотышевой начались серьёзные осложнения, и врачи считали необходимой срочную консультацию с уважаемым ими профессором.
Глава восьмая. Происхождение необыкновенного мальчика
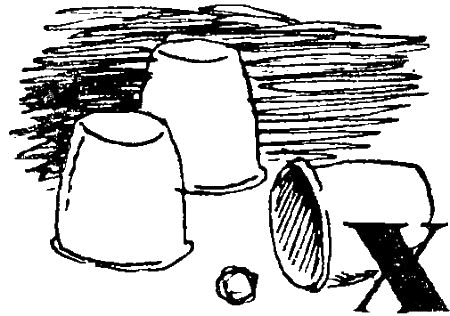
Хотя Паша Севчук, этот необыкновенный мальчик, прожил, казалось бы, не так много лет, ему уже пришлось вести долгую упорную борьбу.
К Пашиному удивлению, бороться приходилось за то, что ему бесспорно полагалось. Казалось бы, раз полагается — приходи и получай. Но нет. Нужны были ухищрения, изобретательность и ловкость.
С тех пор как Паша себя помнил, он служил предметом восхищения для своих родителей. Конечно, восхищались родители не открыто, не прямо, а как будто бы даже шутя, как будто бы даже подсмеиваясь над ним. Но Паша на шутки не обижался. Он понимал, что хвастаться считается нехорошим, поэтому хвастаться нужно так, чтоб казалось, будто ты и не хвастаешься.
С шутками это получалось отлично. С одной стороны, всё выглядело скромно, с другой стороны, Пашины таланты отмечались и даже подчёркивались.
Считалось, что мальчик он шаловливый, не всегда послушный, увлекающийся и быстро забывающий свои увлечения. Отмечалось, что он всем интересуется, без конца задаст вопросы, иногда самые неожиданные, натаскивает в квартиру то каких-то странных жуков, то какие-то жестянки, то увлечённо клеит кораблики. Его ругали за жуков и за шалости, но мягко, просто чтобы кто-нибудь не подумал, будто бы Пашу балуют. Сделав ему замечание или даже строго на него прикрикнув, родители переглядывались и улыбались, стараясь, чтобы Паша этого не видел. Но Паша был наблюдателен, улыбки эти отлично видел и понимал. Значить они могли только одно: Паша мальчик замечательный, необыкновенный, но пока не надо, чтобы он об этом знал.
Сначала Паша был действительно шаловлив и любознателен, но скоро почувствовал, что эти его качества вызывают восхищение. Тогда он стал уже не на самом деле шалить, а делать вид, что шалит. И вопросы стал задавать не потому, что его интересовали ответы, а потому, что это правилось взрослым. Когда-то Паша действительно увлекался жуками и корабликами, но однажды мать сказала при Паше гостям:
— Вот Алик Бусыгин. Зашла я к ним в квартиру. Рай. Тишина. Алик увлекается техникой. Ему купили какой-то мотор, и он две недели его разбирает. А наш — это же ужас! Сегодня одно, завтра другое. Всё его интересует, везде ему надо быть.
Казалось бы, мама хвалит Алика и осуждает Пашу. На самом деле мама хотела, чтобы гости поняли: Паша — мальчик живой, увлекающийся, горячий, с широким кругом интересов, а маленький Бусыгин — существо ограниченное и, наверное, неталантливое.
Неизвестно, поняли ли это гости, но Паша это отлично понял.
На следующий день Паша развинтил настольную лампу и поломал патрон. Родителям он объяснил: «Хотел узнать, как она горит».
На самом деле просто ему хотелось лишний раз послушать, как его хвалят.
Действительно, когда через несколько дней пришли гости, родители рассказали им про лампу, делая вид, что вспоминают просто смешной случай, а на самом деле давая понять гостям, какой у них талантливый, любознательный, живой ребёнок.
В детский сад Паша не ходил. Мама нигде не работала, и необходимости в этом не было. Кроме того, обыкновенный детский сад был для Паши, как бы это сказать, слишком, что ли, обыкновенным. В семье Севчуков не было принято пользоваться тем, чем может пользоваться каждый. Паша всегда ездил отдыхать в какой-нибудь необыкновенный санаторий, в который очень трудно попасть. Дачу для мамы с Пашей тоже получали через министерство каким-то очень сложным путём. Дача была как будто бы даже не лучше других, но то, что на этой даче обыкновенные люди жить не могли, придавало ей совершенно особую ценность. Если бы был какой-нибудь особенный детский сад, недоступный для рядовых людей, наверное, Пашу туда бы устроили. Но, к сожалению, даже в детский сад министерства, куда ходил, пока не вырос, сын самого министра, ходили и дети самых разных людей. Там были сын монтёра, и дочка уборщицы, и двое детей машинистки. Разумеется, это было очень хорошо, просто замечательно.