В дверях показалась жена Сковородникова.
— Ваня, — сказала она, — кричи, пожалуйста, тише. Сам говоришь, надо, чтобы дети росли хорошо.
— Хорошо, — сказал шёпотом Сковородников. И вдруг громко выкрикнул: — А об этом Быкове ты подумала?
Из соседней комнаты раздался крик разбуженного ребёнка, и жена торопливо побежала к нему.
— Я когда-то с ним говорила, — сказала Кукушкина. — Он обещал обязательно в лагерь прийти. Я даже боялась, что он придёт.
— Конечно, боялась! — зло сказал Сковородников. Гадкий утёнок ворвётся в лагерь! А почему он гадкий утёнок, знаешь?
— Не знаю, — сказала Кукушкина.
— Родители воспитывают детей, а ты за их счёт себе пятёрки ставишь. Вот ты говоришь, за сараями страшное место. Привыкла по асфальтированным проспектам ходить! Ах, извините, к закоулкам мы непривычны.
Ребёнок за дверью просто надрывался от крика. Слышно было, как Тамара его успокаивает, но где ж тут успокоить, когда ребёнок слышал яростный голос отца.
— Ты вот представь себе, Кукушкина, — говорил Сковородников, — что, если б врач решил лечить только лёгких больных. Я, мол, их без труда вылечу, и все будут меня хвалить. А с тяжёлыми и возни много да и неудачи будут. Другие станут меня ругать, да и сам я начну сомневаться, может быть, я плохой врач и лучше мне выбрать другую профессию. Да ведь такого врача гнать надо, а не радоваться тому, что у него всё благополучно.
Сковородников, видно, искренне разволновался и говорил очень громко. И хотя в соседней комнате, надрываясь, кричал ребёнок, Тамара не показывалась в дверях. Вероятно, она знала, что, когда муж начинает говорить таким тоном, его ничем не удержишь.
Но Сковородников сам сдержался. Он помолчал, вынул платок из кармана и вытер вспотевшее лицо.
— Товарищ Сковородников, — сказала Катя, — я во всём с тобой согласна. Мне только надо было раньше об этом подумать. Да ведь сожалеть поздно. Отпусти меня на завод. Может быть, я года через два-три поумнею.
— Чёрта с два я тебя отпущу, — сказал Сковородников. — Ты теперь дорого стоишь, Кукушкина. Ты кое-чему научилась и кое-что поняла. Ты теперь голову положишь, а Вова Бык в лагере у тебя будет. Кстати, ты узнай, что у него за семья, что за дом… Если на него столько ребят работают, то куда он деньги девает? Ты завтра, Катя, заново начнёшь работать и помни, что нет у тебя задачи важнее, чем Вова Бык.
Сковородников замолчал, ещё раз вытер платком лицо и негромко сказал:
— Тамара, можно мне выкурить сигаретку? Я, понимаешь, разволновался.
— Ладно, — ответила из-за двери Тамара, — кури. Слышу, что разволновался.
— Понимаешь, Кукушкина, — доверительно сказал Сковородников, — бросил курить, но выговорил себе право закуривать, когда волнуюсь.
Он достал из ящика сигарету, закурил, и на лице его отразилось блаженство.
— Ты не сердись, Кукушкина, что я на тебя накричал. Ты молодец, что пришла, но и не думай лагерь бросать. Знаешь, пословица есть: «За битого двух небитых дают». Куда же мы тебя, Катя, отпустим? Теперь тебе только и начинать работать по-настоящему.
Когда Катя вышла от Сковородникова, уже светало. Москва была безлюдная, серая. Погасили фонари, по солнце ещё не взошло. Катя пошла пешком. Она шла, и мир всё светлел и светлел, и когда она вышла на набережную, над рекой поднимался туман, и потом неожиданно брызнули первые лучи солнца. Солнца не было видно, оно скрывалось за домами, но лучи его, будто отточенные шпаги, разили туман и сумрак.
Шла Катя и думала: как быть с Быком? Не знала она, как быть. Знала только, что Бык — мальчишка, которому, наверное, плохо живётся, и что если она будет думать о том, как сделать, чтобы ему лучше жилось, а не о том, чтобы гостям нравился её лагерь, то, наверное, сможет она поговорить с Быком.
Она не знала, как не знал и не мог знать Сковородников, что если опасен Бык, то, может быть, вдвое опаснее замечательный, безукоризненный Паша Севчук. Много прошло времени, пока она об этом узнала.
Сейчас она шла по набережной, и солнечные лучи, как шпаги, разили туман и сумрак, над Москвою вставало солнце, и Катя Кукушкина снова поверила в меткость своего взгляда, в точность своей руки, в свою удачу в работе.
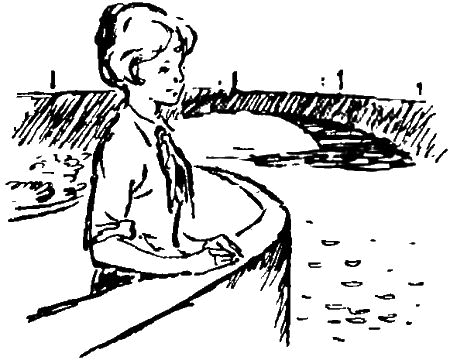
Часть третья. Подъём
Глава двадцать четвёртая. Руки хирурга
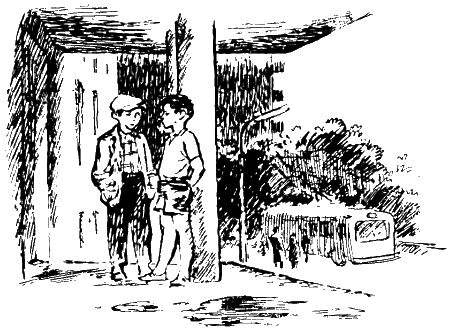
Не то спала Анюта, не то не спала. Всю ночь металась она, и виделись ей и Миша, и мать, и отец, и блестящие инструменты, которыми хирург режет живое тело матери. Проснулась она чуть свет. Миша спал как убитый. Он-то ведь не знал, что сегодня предстоит операция. Анюта его разбудила, приготовила завтрак и, когда они сидели за столом, сказала брату о том, что надо ехать сейчас в больницу, потому что маму будут оперировать.
Миша промолчал. Только глаза у него стали испуганные и несчастные. Анюта думала, что он начнёт её расспрашивать, какая операция, опасная ли и что говорят врачи, но Миша ни о чём её не спросил и только, быстро доев яичницу, сказал:
— Ну, давай поедем.
В палату их не пустили. Они стояли на площадке лестницы, и мимо них по коридору провезли к лифту на специальной больничной каталке мать. У матери были удивительно румяные щёки и лихорадочно блестевшие глаза. Каталку вкатили в лифт, лифт поехал наверх, и Анюта так и не узнала, видела их мать или не видела.
А они остались на лестничной площадке. Они сидели на жёсткой деревянной скамейке, и Анюта собиралась заплакать, когда вдруг расплакался Миша.
— Ой, Анюта! — сказал он и повторил: — Ой, Анюта! — и больше ничего не сказал, потому что и так всё было понятно.
Анюта обняла его, и погладила его по плечу, и не заплакала, потому что надо было утешать младшего брата.
Всё было как будто в тумане. Неожиданно из тумана возникли Мария Ивановна, Мария Степановна и Мария Семёновна, все три с напряжёнными, взволнованными лицами, и Павел Алексеевич, и ещё какой-то человек, которого Анюта не знала, и что-то они говорили ей, но Анюта не понимала что и только кивала головой, как будто бы она понимает и соглашается.
В операционной целая стена была стеклянная, но несмотря на то что было очень светло, ярко горели огромные лампы с зеркальными отражателями. Люди в белых халатах с марлевыми масками, закрывавшими нижнюю часть лица, двигались неторопливо и быстро. Клавдию Алексеевну положили на стол. Хорошо, что Анюты и Миши не было здесь, иначе они бы увидели, как мелкою дрожью дрожит Клавдия Алексеевна, дрожит, как почти всегда дрожат люди в ожидании операции.
Хирург мыл руки. Он тёр их твёрдыми щётками, долго полоскал в эмалированном тазу, и няни в марлевых масках суетились вокруг него. Хирург был маленького роста, крепыш, с мускулистыми, сильными руками. Ом высоко засучил рукава, и было видно, как у него напряжены мышцы.
Пожилая хирургическая сестра, которую знали все хирурги Москвы, потому что не было хирургической сестры, работающей лучше и точнее, чем она, наклонилась над Клавдией Алексеевной и негромко сказала ей слова, которые надо сказать человеку, когда он ждёт и не знает: предстоит ему жизнь или смерть. Хирургическая сестра была мужеподобна и некрасива, и казалось по внешности, что она человек грубый, не способный утешить и приласкать человека, и всё-таки все больные на всю жизнь запоминали её грубоватую ласковость, сдержанную, но искреннюю её нежность.
А хирург всё мыл и мыл руки, и няня приготовила спирт, чтоб полить на руки, и он тёр руки щётками, и руки у него были сильные, волосатые, грубые, и только настоящие знатоки хирургии знали, с какою нежною точностью делает он операции.
Врач-анестезиолог скомандовал — и сестра наложила на лицо Клавдии Алексеевны маску.
— Считайте, — сказал врач-анестезиолог, — и ни о чём не думайте. Операция не трудная. Вы проснётесь здоровой. Про себя считайте: раз, два, три… И ни о чём не думайте.