— Ну а ты, сынок, что думаешь, как посоветуешь?..
Иван ответил не сразу. Будто подбирал, подыскивал слова:
— Не сердись, отец… Годы у тебя уже немалые. И здоровье не то, что раньше было. Богом тебя молю, не связывайся ты с Сашкой. Хитрый он мужичонка, себе на уме…
— Ванюша, какой же он хитрый! Он печатню помогает мне открыть. Добро мне, нищему, хочет сделать. А я снова книги печатать буду. Ведь не о корысти думаю…
— Ты, отец, — нет, а он — да. Без своей выгоды Сашка не ступит. Оставайся с нами. Будем вместе переплетным делом заниматься. Проживем тихо, спокойно, прокормимся…
— Не для тихости, Иван, я гонения и муки сносил. Никогда я жизни своей не менял и теперь не сменяю.
— Воля твоя. Знаю, мое слово тебе не указ… Не хотел я тебя тревожить, а, видно, надобно — Гринь и тот тебе не поверил. Укатил, убежал в Литву, в Вильнюс. Мамоничам теперь шрифт лить будет. Видать, там дело понадежнее, денежнее…
Ложась спать, Федоров вдруг побоялся задуть свечу. Было боязно остаться в полной темноте совсем одному. Да ведь и при свете этого желтого, колеблющегося язычка он тоже одинок. Сбежал последний ученик. Неужто суждено ему всегда быть одиноким? Идти по жизни без верных друзей, без близких помощников?.. Свою жизнь он прожил по-своему. Так же и кончит ее. Но как же Гринь, тот маленький мальчик Гриня, который горько плакал, упрашивая дяденьку Ивана взять его с собой… Как же это случилось? Неужто деньги дороже правды и честности?
С тяжким вздохом Федоров все же задул свечу.
Через неделю пожаловал к печатнику нежданный гость — мрачный, долговязый человек.
— Будь здрав, Иван Москвитин. Данила Пушкарь я. Есть дело к тебе…
— Садись, Данила. Гостем будешь.
— Наслышан я, что искусен ты в литейном деле…
— Искусен ли — не мне судить, а дело знакомое…
— Вот и сужу. Получил я заказ от города Кракова отлить им пушку. Отказываться негоже, потом звать не будут, а принять заказ не могу. Своей работы сейчас — во… — Он провел ребром ладони по горлу. — И мыслю я: может, взять мне заказ. Пушку ты им отольешь, а мне за сватовство, — Данила осклабился, — процент заплатишь.
Лить пушку — не ожидал Федоров такого предложения. Он всегда стремился нести людям добро, знания, а пушка… Да еще для польского короля…
— Не знаю… Подумать должен. Не мое это дело — пушки лить. Не знаю…
— А ты обмысли, обмысли не спеша. Я дня через два загляну…
Да, предложение Данилы сулило деньги, столь нужные сейчас для новой печатни, но само дело казалось противным всему его естеству.
На колокольне костела загудел колокол. В распахнутые двери потянулись верующие. И вдруг он вспомнил — храм Николы Гостунского: красноватые язычки свечей сверкают на золоте иконостаса. Со стен на собравшихся строго глядят суровые, молчаливые святые. За длинным столом — царь, митрополит, бояре. За спиной царя — дюжая стража, а перед ним — на коленях, в цепях маленький сгорбленный человечек — Матвейка Башкин. Нет, ни пушкой, ни мечом, ни огнем нельзя правду убить. Можно убить, сделать калекой, можно запретить печатать книги, но нельзя запретить думать. Книги рождают знание и мысль. Значит, они сильнее пушек…
Через два дня Иван Федоров дал согласие на литье пушки. Данила Пушкарь выплатил ему 136 злотых, забрав себе четырнадцать злотых как проценты. Сто два злотых выдал магистрат. Это уже составляло сумму, достаточную, чтобы и пушку отлить, и готовить печатню к работе.
К началу весны объявился во Львове Гринь. Исхудавший и оборванный, он пришел к Федорову и молча упал на колени. Гринь нарушил закон. Гринь убежал от своего мастера к другому и теперь должен предстать перед судом цеха. Он отлил шрифт Мамоничам в Вильнюсе, а те, заплатив ему меньше, чем Федоров, выгнали прочь. Мамоничи знали, что Гринь, нарушив закон, не посмеет на них жаловаться. И вот теперь, жалкий, стоял он перед своим мастером на коленях, ожидая приговора. У Федорова не было на него злости. Он уже давно свыкся с мыслью, что нет у него надежных помощников и должен он идти к своей цели всегда один. Может, потом поймут люди, а сейчас… Сейчас и родной сын не одобряет его. Гринь еще молод, отдать его суду — значит искалечить жизнь. «Не сотвори насилия убогому, понеже убег есть», — он сам напечатал в «Букваре».
Гринь клялся, обещал, что больше никогда не изменит мастеру. Он приготовит для новой печатни самые лучшие шрифты. Такие, каких ни у кого не было. И Федоров согласился. Даже пообещал заплатить за работу двести золотых. На сто золотых, взятых в долг у ростовщика, он уже купил первую партию бумаги.
Гринь был прощен.
Последнее изобретение
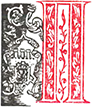
Ясновельможный пан извещал «печатника книг русских и греческих Ивана Федорова из Москвы», что срок его службы по договору еще не истек. А посему повелевает князь Острожский ему, Федорову, готовиться к отъезду в Рим к кардиналу Птоломео Галли, у которого надлежит мастеру отлить новые шрифты для печатания книг на русском языке. Паче чаянья восхочет мастер отказаться исполнить повеление князя, то стребует князь с Федорова всю неустойку, обусловленную в договоре…
Резко качнулась земля под ногами Федорова, и он грузно осел на стоявший рядом чурбак. Это был конец. Конец всем планам и мечтам… Посланец удалился, бросив на ходу, что ждет мастера вечером на постоялом дворе у рынка.
Для раздумий оставалось мало времени. Да и что тут раздумывать, когда все как в страшной сказке: налево пойдешь — коня потеряешь, направо пойдешь — сам пропадешь. Отказаться от поездки — значило судиться с князем, проиграть дело и выплатить за отказ от работы сотни злотых, которых нет. Поехать в Рим — значит предать собственное дело, предать единоверных братий своих, толкнуть их в лапы к иезуитам и католикам на рабство духовное.
Кто-то окликнул его:
— Что пригорюнился, мастер? Железо ржа поедает, а печаль сердце сокрушает. Не горюй! От всякой печали бог избавит…
Бог да бог, а и сам не будь плох. Не печалиться ему сейчас время, а снова из беды выкручиваться. Найдет он выход, а пока… пока ответ даст князю, что исполнит его поручение и поедет в Рим.
Есть сегодня у него только одна цель: достать как можно скорее денег, чтобы откупиться от князя. Да только где? В долг уже никто больше не дает. Заработать печатанием книг? Но у него нет сейчас печатни. И где бы он ни укрылся — на Украине или в Польше, длинные руки князя его повсюду достанут. Значит… надо ехать.
Стой! А что, если там, на Западе, он сможет продать свое умение лить пушки и тем освободится от кабального договора с князем Острожским? Во имя будущей работы можно и отступить.
Ему вспомнилось, как однажды, еще в Москве, он пришел на Пушечный двор. Глядя, как отковывают стволы пищалей, он подумал тогда, что можно сделать пушку со множеством стволов. Даже стоствольную. Подумал и выбросил мысль из головы, как никчемную. А вот сейчас вспомнил. Такую пушку можно продать. И получить взамен наконец независимость и новую хорошую печатню.
Итак, решено. Он едет сначала в Вену к императору Рудольфу II, у которого, как говорят, сейчас добрые отношения с царем Иваном Васильевичем.
Снабженный деньгами и письмом от князя Острожского к римскому кардиналу, литейщик, пушечный мастер, печатник книг русских Иван Федоров выехал из Кракова на Прагу, а уже оттуда в столичный город Вену.
За полстолетия до приезда Ивана Федорова путешественник из Венеции так записывал свои впечатления от Вены: «Этот город очень красив и велик, укреплен кругом старинными стенами и имеет большой замок… со внешними и внутренними рвами, с прекрасными помещениями… В городе есть большая и красивая церковь… У этой церкви есть также прекрасная, высокая, с острым шпилем башня, на которую можно подняться по винтовой лестнице из 317 ступеней… Есть там и еще много красивых церквей, и говорят, что их так много, как дней в году, если считать вместе открытые для всех и капеллы в домах знати… В этом городе улицы очень хороши, украшены богатыми домами и дворцами, и повсюду на них разного рода лавки с товарами».