— Папаня! — вскрикивает Фрося и, смешав колоду, мчится к калитке.
Фроська у Василия Васильевича — любимица. Он в ней души не чает.
Даже Пелагея Егоровна ему за это выговаривает:
— Избалуешь ты её, отец, на свою голову.
— Ну, какое же это баловство? — оправдывается Тарасов. — Раньше с получки купишь пряников, а теперь вот… — Он достаёт из кармана кулёчек.
— Леденчики! — ахает Фроська.
— На толкучке на зажигалку выменял, — признаётся Тарасов.
Леденчики пахнут нафталином.
Пелагея Егоровна и сама бы всей душой хотела порадовать дочку, да чем порадуешь?
С утра до ночи Пелагея Егоровна на ногах. И всё по очередям. Бывает, что простоит целый день и придёт ни с чем.
— Я, Вася, нынче хлеба не выстояла, — говорит она, подавая на стол пустой кулеш.
А Василий Васильевич ещё шутит:
— Ничего, мать, похлебаем вприглядку, зато потом с ситным будем.
— Когда? — Пелагея Егоровна не укоряет, а спрашивает: — Когда с ситным?
Отложив ложку, Василий Васильевич молчит.
— Вот Евстигнеевы, — говорит Пелагея Егоровна, — всей семьёй в деревню уехали. Детей своих пожалели.
Она подливает Фросе и Гришке кулешу погуще.
— Сам Евстигнеев там на мельнице устроился. А мы?
— Я, Поля, с завода не уйду. Тёплого места искать не буду, — отвечает Василий Васильевич. — Ты меня знаешь.
Пелагея Егоровна глядит на мужа.
— Постарел, похудел. Не серчай на меня, Вася, — говорит она. — Это я так про Евстигнеевых.
Пелагея Егоровна на людях за Василия Васильевича горой. Это дома, с голодухи да от усталости, сорвалось про Евстигнеевых.
— Ты у меня умница, — говорит жене Василий Васильевич. — Какой из меня мельник?
Уже поздно, все спят. Загородив лампу, Пелагея Егоровна чинит Василию Васильевичу рубаху. Вылиняла рубаха, а была когда-то лазоревая в полоску. «Вася её по праздникам надевал, — вспоминает Пелагея Егоровна. — Что ж, что теперь седые, — вздыхает она, — любви моей не убавилось. Как был он для меня лучше да красивее всех, так и остался».
Башмаки с подмётками
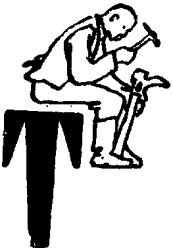
Тимошка Василия Васильевича побаивался.
— Как, артист, живём? — спрашивал его Василий Васильевич.
— Хорошо, — отвечал голодный Тимошка.
«Жаловаться неприлично», — учил его дед.
— Чего хорошего… Пелагея Егоровна нынче щи с воблой варила. Иди поешь.
Отводя глаза, Тимошка отказывался:
— Мы поели, спасибо.
Как-то вечером Василий Васильевич сидел на крыльце — чинил Фроськины башмаки. Фрося подавала отцу то дратву, то шило. Тимошка смотрел, как, ловко продёргивая дратву, хозяин ставит заплатки.
— Держи, дочка, — сказал Василий Васильевич, окончив работу.
Фроська обулась и козырем прошлась по двору.
Цок! Цок! — постукивали подбитые подковками каблучки.
— Теперь, артист, давай твою обутку, — сказал хозяин.
Тимошка не понял:
— Чего давай?
— Давай, давай! — повторил Василий Васильевич. — Заодно починю.
Когда растерянный Тимошка протянул ему свои полусапожки, Василий Васильевич оглядел их и присвистнул.
— Как же ты, артист, топаешь? Поля! — позвал он жену.
На крыльцо вышла Пелагея Егоровна.
— Там Гришкины сапоги в чулане — вынеси, — попросил её Василий Васильевич.
Пелагея Егоровна вернулась с сапогами. Гришкины сапоги были ещё крепкие, с широкими голенищами.
— Ну-ка, примерь, — сказал Василий Васильевич.
— Не надо. — Тимошка оглянулся на сарай, где, намаявшись за день, отдыхал дед.
— Мы с Семёном Абрамовичем сочтёмся, — сказал Василий Васильевич. — А ты обувайся!
И Тимофей, замирая от счастья, сунул ноги в сухие тёплые сапоги…
— Велики небось? — спросила Пелагея Егоровна.
— Ничего не велики, — заступилась за Тимошку Фрося.
А Тимошка, присев на приступку, стащил с ног сапоги.
— Не надо мне, — сказал он. — В своих прохожу.
— Скажи, какой фон барон! — рассердился Василий Васильевич.
Тимошка посмотрел на подарок с сожалением.
— В них плясать тяжело. Ничего не заработаешь, — сказал он со вздохом. — А я — не фон!..
Василий Васильевич задумался:
— Вот что, артист: ты походи в них дня два, а я твои постараюсь залатать. — И Василий Васильевич унёс Тимошкины полусапожки в дом.
Через два дня, как и обещал, он возвратил их Тимошке.
— Пляши, — сказал он. — Работай.
— Надо благодарить, — напомнил Тимошке дед.
— Спасибо, — спохватился Тимошка и, переобувшись, побежал похвастаться перед Фроськой.
— У меня теперь тоже башмаки! С подмётками!
— Я, Семён Абрамович, его ремеслу бы учил, — сказал Василий Васильевич, поглядев вслед Тимошке.
— Ремеслу? — Шарманщик усмехнулся. — Я не знаю, какой из него получился бы токарь или слесарь, но музыкант… Вы слыхали, как он поёт? Он не берёт ни одной фальшивой ноты.
Василий Васильевич спорить не стал.
— Пусть будет по-вашему, — сказал он. — Только моё убеждение, что нужно и ремесло знать. Рабочий человек — он всему основа. У меня смолоду тоже гармонь была. А сейчас не до неё. Какие теперь песни?
— Как это какие песни? — рассердился Семён Абрамович. — Вот вы… вы даже на митингах поёте…
— Так это же «Интернационал»! — возразил Василий Васильевич.
Шарманщик посмотрел на Василия Васильевича строго.
— Я сейчас нищий, вы это знаете, но я — музыкант. А «Интернационал» — песня.
На следующий день Тимошка шагал по лужам без опаски: на нём были башмаки с подмётками.
Страшное утро
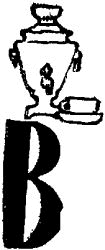
Ветер всю ночь стучал дверью, а под утро затих.
Когда Тимоша проснулся, в сарае было совсем светло. Дед ещё спал, укрывшись с головой. Тимоша поглядел в щёлочку — на дворе лежал чистый, белый снег, и было слышно, как на крыльце дома кто-то колол лучину.
«Хозяева будут ставить самовар», — подумал Тимоша.
Тихо, чтобы не потревожить деда, он слез с постели и вышел из сарая. На крыльце колола лучину Фроська.
— Проснулись? — спросила она.
— Гляди, зима!
Тимошка бросил в Фроську снежком. Она засмеялась, сбежала по ступенькам, держа в руках тяжёлый косарь.
— Я вот тебе! — Из-под тёплого платка на Тимошку глядели голубые Фроськины глаза.
У Тимошки глаза чёрные-чёрные. И волосы тоже чёрные, жёсткие, тугими колечками. А у Фроськи коса. Сегодня воскресенье: в косу вплетена зелёная ленточка.
— Дочка! — позвал из дома голос Пелагеи Егоровны. — Дочка!
И Фрося, собрав лучину, убежала в дом.
Оставляя следы на пушистом снегу, Тимошка вернулся в сарай. Дед всё ещё спал, лёжа на спине, а попугай Ахилл качался в кольце, распуская остатки когда-то роскошного хвоста. Увидев Тимошку, он приподнял хохолок, но в разговор с ним не вступил: Ахилл предпочитал разговаривать с дедом. В дверь заглядывало морозное солнце. Тёмные стены, позумент на шарманке были тронуты его позолотой. И на постели тоже прыгал солнечный зайчик.
— Хозяева самовар ставят, — сказал Тимошка.
Дед не приподнял головы.
— Самовар кипит! — закричала со двора Фрося.
«Может, чай не пустой?» — подумал Тимошка и сказал громче:
— Хозяева зовут. Я пойду.
Дед не отвечал.
Утерев лицо горсткой снега, потом рубахой, Тимошка побежал в дом.
Хозяева уже сидели за столом. На подносе фырчал самовар, а на тарелке лежали лепёшки. У Тимофея захватило дух.
— С пирогами нынче, — сказала Пелагея Егоровна. — Садись.
— А что ж один? — спросил Василий Васильевич.
— Дед ещё спит, — ответил Тимоша. — Я будил он не просыпается.
Тимоша разломил лепёшку. Внутри она была сырая, похожая на горячий, крутой кисель.
— Ешь, чего глядишь! — И Фрося похвастала: — Из чего лепёшка-то, не угадаешь, а я знаю…