Голос преподобного Сайкса прозвучал издалека, как перед тем голос судьи Тейлора:
— Встаньте, мисс Джин Луиза. Ваш отец идёт.
22
Настал черёд Джима плакать. Мы пробирались сквозь шумную весёлую толпу, а по его лицу бежали злые слёзы. Несправедливо это, твердил он всю дорогу до угла площади, где нас ждал Аттикус. Аттикус стоял под уличным фонарём, и лицо у него было такое, словно ничего не случилось, жилет застёгнут, воротничок и галстук на месте, цепочка от часов блестит, весь он спокойный и невозмутимый, как всегда.
— Несправедливо это, Аттикус, — сказал Джим.
— Да, сын, несправедливо.
Мы пошли домой.
Тётя Александра ещё не ложилась. Она была в халате, и — вот честное слово — корсета она не снимала.
— Мне очень жаль, брат, — негромко сказала она.
Она никогда ещё не называла Аттикуса братом, и я покосилась на Джима, но он не слушал. Он смотрел то на Аттикуса, то в пол — может, он думал, Аттикус тоже виноват, что Тома Робинсона осудили.
— Что с ним? — спросила тётя про Джима.
— Ничего, он скоро придёт в себя, — ответил Аттикус. — Ему это не так-то легко далось. — И вздохнул. — Я иду спать. Если утром не выйду к завтраку, не будите меня.
— Прежде всего неразумно было разрешать детям…
— Здесь их родной дом, сестра, — сказал Аттикус. — Так уж мы для них его устроили, пусть учатся в нём жить.
— Но им совершенно незачем ходить в суд и пачкаться в этой…
— Это в такой же мере характерно для округа Мейкомб, как и собрания миссионерского общества.
— Аттикус, — глаза у тёти Александры стали испуганные, — я никак не ожидала, что ты способен из-за этого ожесточиться.
— Я не ожесточился, просто устал. Я иду спать.
— Аттикус… — угрюмо сказал Джим.
Аттикус приостановился в дверях.
— Что, сын?
— Что же они сделали, как они могли?
— Не знаю как, но смогли. Они делали так прежде и сделают ещё не раз, и плачут при этом, видно, одни только дети. Покойной ночи.
Но утром всегда всё кажется не так страшно. Аттикус по обыкновению поднялся ни свет ни заря, и, когда мы понуро вошли в гостиную, он уже сидел, уткнувшись в «Мобил реджистер». На сонном лице Джима был написан вопрос, который он ещё не мог толком выговорить.
— Погоди волноваться, — успокоил его Аттикус, когда мы все вошли в столовую. — Мы ещё повоюем. Подадим апелляцию, ещё не всё потеряно. Господи боже мой, Кэл, это ещё что такое? — Аттикус во все глаза уставился на свою тарелку.
— Папаша Тома Робинсона прислал вам сегодня цыплёнка, а я его зажарила.
— Скажи ему, что для меня это большая честь, ведь даже у президента наверняка не подают к завтраку цыплят. А это что такое?
— Булочки, — сказала Кэлпурния. — Их прислала Эстелла, которая кухаркой в гостинице.
Аттикус посмотрел на неё в недоумении, и она сказала:
— А вы подите поглядите, что в кухне делается, мистер Финч.
Мы тоже пошли. Кухонный стол ломился от всякой снеди: толстые ломти копчёной свинины, помидоры, бобы, даже виноград. Аттикус увидел банку засолённых свиных ножек и усмехнулся.
— Как вы думаете, тётя позволит мне есть это в столовой?
— Прихожу утром, а у нас всё заднее крыльцо завалено. Они… они очень благодарны вам за всё, что вы сделали, мистер Финч. Это… это ведь не слишком дерзко с их стороны?
В глазах Аттикуса стояли слёзы. Он ответил не сразу.
— Передай им, что я очень признателен, — сказал он наконец. — Передай им… передай, чтоб они никогда больше этого не делали. Времена слишком тяжёлые…
Он заглянул в столовую, извинился перед тётей Александрой, надел шляпу и отправился в город.
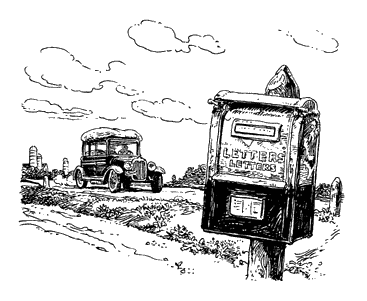
В прихожей послышались шаги Дилла, и Кэлпурния не стала убирать со стола завтрак, к которому Аттикус так и не притронулся. Дилл, как всегда, жевал передними зубами и рассказывал нам, что сказала после вчерашнего вечера мисс Рейчел: если Аттикус Финч желает прошибать стену лбом — что ж, лоб-то его, не чей-нибудь.
— Я бы ей сказал, — проворчал Дилл, обгладывая куриную ножку, — да с ней сегодня не очень-то поспоришь. Говорит, полночи из-за меня проволновалась, хотела заявить шерифу, чтоб меня разыскивали, да он был в суде.
— Ты больше не бегай никуда, не сказавшись. Ты её только хуже злишь, — сказал Джим.
Дилл покорно вздохнул.
— Да я ей сорок раз говорил, куда иду… Просто ей слишком мерещатся змеи в шкафу. Вот спорим, она каждое утро за завтраком выпивает пинту — два полных стакана, я точно знаю. Своими глазами видел.
— Не говори так, Дилл, — сказала тётя Александра. — Детям не пристало так говорить. Это… это бесстыдство.
— Я не бесстыдник, мисс Александра. Разве говорить правду бесстыдно?
— Так, как ты говоришь, — бесстыдно.
Джим сверкнул на неё глазами, но только сказал Диллу:
— Пошли. Виноград возьми с собой.
Когда мы вышли на веранду, мисс Стивени Кроуфорд, захлёбываясь, рассказывала про суд мистеру Эйвери и мисс Моди Эткинсон. Они оглянулись на нас и опять заговорили. Джим издал воинственный клич. А я пожалела, что у меня нет оружия.
— Ненавижу, когда большие на меня смотрят, — сказал Дилл. — Сразу кажется, будто что-нибудь натворил.
— Поди сюда, Джим Финч! — закричала мисс Моди.
С тяжёлым вздохом Джим слез с качелей.
— И мы с тобой, — сказал Дилл.
Мисс Стивени так и нацелилась на нас своим любопытным носом. Кто же это нам позволил пойти в суд? Она-то нас не видала, но сегодня с утра в городе только и разговору, что мы сидели на галерее для цветных. Это что же, Аттикус усадил нас туда, чтобы?… Там, верно, дышать было нечем среди всех этих?… И неужели Глазастик поняла всё это?… А досадно, верно, нам было, когда нашего папочку разбили в пух и прах?
— Помолчи, Стивени, — ледяным тоном сказала мисс Моди. — Я не намерена всё утро торчать на крыльце… Джим Финч, я позвала тебя, чтобы узнать, не желаешь ли ты и твои коллеги отведать пирога. Я поднялась в пять часов, чтобы его испечь, так что лучше соглашайся. Прошу нас извинить, Стивени. До свиданья, мистер Эйвери.
На кухонном столе у мисс Моди красовался большой пирог и два маленьких. Маленьких нужно бы три. Не похоже было на мисс Моди, чтоб она забыла про Дилла, и, наверно, лица у нас стали удивлённые. Но тут она отрезала кусок от большого пирога и протянула его Джиму.
Мы ели и понимали — это мисс Моди показывает нам, что её отношение к нам ни капельки не изменилось. Она молча сидела на табурете и смотрела на нас.
И вдруг сказала:
— Не горюй, Джим. В жизни всё не так плохо, как кажется.
Когда дома, не на улице, мисс Моди собиралась произнести длинную речь, она упиралась ладонями в колени и языком поправляла вставные зубы. Так она сделала и сейчас, а мы сидели и ждали.
— Вот что я хочу вам сказать: есть на свете люди, которые для того и родились, чтобы делать за нас самую неблагодарную работу. Ваш отец тоже такой.
— Ладно уж, — безнадёжным голосом сказал Джим.
— Никаких «ладно уж», сэр, — сказала мисс Моди. — Ты ещё недостаточно взрослый, чтоб уразуметь мои слова.
Джим уставился на свой недоеденный пирог.
— Чувствуешь себя, как гусеница в коконе, вот что, — сказал он. — Будто спал спелёнатый в тёплом углу и ветерок ни разу на тебя не подул. Я всегда думал, мейкомбцы самые лучшие люди на свете, по крайней мере с виду-то они такие.
— Мы самые благополучные люди на свете, — сказала мисс Моди. — Не часто обстоятельства призывают нас доказать, что мы и в самом деле христиане, но уж когда это случится, у нас есть на то люди вроде Аттикуса.
Джим горько улыбнулся.
— Хорошо, если бы все в нашем округе так думали.
— Ты и не подозреваешь, как нас много.
— Разве? — Джим повысил голос. — Кто хоть чем-нибудь помог Тому Робинсону, ну кто?
— Прежде всего его друзья цветные и люди вроде нас. Вроде судьи Тейлора, вроде мистера Гека Тейта. Перестань жевать, Джим Финч, и пошевели мозгами. Тебе не приходило в голову, что судья Тейлор не случайно назначил Аттикуса защитником Тома? Что у судьи Тейлора могли быть на это свои причины?