— А Зимогоров про тебя не спрашивал.
— Так и должно быть. Скажи Зимогорову — все узнают, что выдры выпущены. И пойдут зимой стрелять. Велено подождать с оповещением. Да и Зимогорова участок не здесь. Чего ему беспокоиться?
— Ну, он-то по-другому думает. Царем и богом здешних мест держится. «У меня под началом целая Голландия по площади».
— Думать — не грешить, как мой папаня говорит.
— Жаль, что нет у тебя времени с ним потолковать. Вот бы причесал его.
— Всех причесывать — для себя в гребешке зубьев не останется, — довольный собой, Гришуня цокнул языком. — Не нравится, выходит, тебе егерь?
— Егерь как егерь. Я уж говорил тебе. Только вот у тебя находится для меня время, а у других — нет. Я, сам знаешь, с четырнадцати лет охочусь. Походил с промысловиками. Присматривайся, говорят, думай. Ну, присмотрелся, а чего обдумывать — не знаю. «Делай, как мы», а сами каждый раз по-иному поступают.
— Точно, — кивнул Гришуня, пристально присматриваясь к тому, как работал ножом Комолов. Действовал он быстро и ловко, и было совсем непонятно: чего приспичило Антону жаловаться на наставников-промысловиков? Делом они заняты — верно.
«А будь ты мне не надобен — стал бы я с тобой разговоры разговаривать? — подумал Гришуня. — Ну, а за сведения, что не собирается сюда никто, — спасибо. Надо бы тебя по шерстке погладить». И Гришуня сказал:
— Что человек, что скотина, тыкается в бок матери, пока в вымени молоко есть. А с тебя чего промысловики возьмут? Шерсти клок?..
— Я к тому и говорю: ты, Гришуня, другой человек. У всех спрашивать да клянчить надо, а ты сам сколько для меня сделал. Видишь, надобно мне что-то, сам догадываешься. Я каждый твой совет помню.
Резковатый в движениях Антон выпрямился, посмотрел на своего друга — рубаху-парня. Увидел крепко разбитые олочи на ногах Гришуни: мягкая трава-ула высовывалась из разъехавшихся швов:
— Ты уже, видать, давно здесь?
— Олочи-то разбиты? — Гришуня. проследив за взглядом Антона, рассмеялся, но глаза его оставались серьезными. — Нитки, хоть и капрон, да не сохатины жилы. Кожу рвут, проклятые. В городе олочи шили. А я и месяца здесь не нахожусь. Мне, сам понимаешь, панты совсем не нужны. Случайно время совпало… А в какой ключик мясо снесешь? День жаркий будет.
— Внизу. Вон там, в зарослях лещины.
Гришуня подумал было, что есть родник и поближе к балагану Комолова, да решил промолчать. Многознайство требует объяснений, а этого Гришуне совсем не хотелось. Главное, парень привязался к нему крепко.
— Я лишние олочи с собой в запас взял. Вот и подарю их тебе. Сам шил, без капрона. Не разойдутся по швам. Для милого дружка и сережка из ушка, — стараясь подделываться под манеру Гришуни говорить присловьями, добавил Комолов.
III
В полдень второго дня пути инспектор стороной миновал сопочную гряду. Заночевал в старой охотничьей избушке. А ещё через сутки Семен оказался в лиственничном бору, памятном по давнему сложному делу о гибели лесничего.
Тогда, приступив к службе на новом месте и не зная ещё людей, не разобравшись в непонятных ему взаимоотношениях, он верил всем безоговорочно. И едва не попался на удочку хитрого, хорошо продуманного наговора на честного охотника Федора Зимогорова.
Сколько же тогда пришлось ему проявить настойчивости, чтобы добиться снятия с Федора ложного обвинения. Не было ни одного факта, ни одного свидетельства в пользу Федора Зимогорова. Ни единого. Кроме отношения к нему охотников, которые считали: человек он — болеющий за общее дело — создание промыслового хозяйства в тайге, организации тогда новой, но многообещающей и для таежников и для государства, и такой человек не может быть плохим.
Доказать непричастность Федора к гибели лесничего, отвести подозрения в убийстве могло лишь одно: экспертиза оружия лесничего, вскрытие трупа утонувшего в трясине. Но как извлечь лесничего из болота? Это невозможно, невероятно даже летом, а тем более зимой…
— Здравствуй… Багдыфи, милиция… — услышал Семен негромкое приветствие и вздрогнул от неожиданности. Справа от него, в пяти шагах стоял старик удэгеец в пестрой одежде. Он словно возник здесь мгновенно, сказочным образом.
Удэгеец смотрел на инспектора добрым, светлым взглядом.
— Здравствуй, Дисанги. Откуда ты?.. — проговорил Семен и запнулся. Очень уж хотелось спросить «взялся», да неловко. Семен почувствовал себя скверно: просмотрел человека в пяти шагах, а ещё минуту назад старший лейтенант искренне считал себя достаточно опытным таежником.
Старик чуть развел руками, отвечая на недосказанный вопрос. Мол, тут и стоял, давно стоял, на тебя смотрел, ты подошел — здравствуй сказал. Но спросил Дисанги о другом.
— Почему так задумался, инспектор? — вопрос был спасительный. Невежливо интересоваться, почему же, идя по тайге, человек не заметил другого. Так можно и в когти хищника угодить.
— Я немного и к тебе шел… — коверкая русский, ответил Семен. Это получалось ненароком. Почему-то казалось, что если говорить, подделываясь под строй чужой речи, то тебя легче и правильней поймут.
— Вот и нашел. Рад тебе, инспектор. Идем к табору. Кушать будем, чай пить будем.
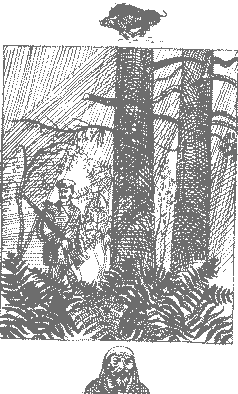
Они направились через лиственный бор в сторону болота. Летние лиственницы не нравились Семену. Мочковатые сучья выглядели уродливо, а венчики хвои, торчащие из мочек, казались редкими, бледными, худосочными. Редкий подлесок меж стволов выглядел куда ярче, пышнее, наряднее.
— Плох я охотник стал. Руки, ноги совсем не охотники, а если головой охотник — плохая охота, — бормотал Дисанги, вроде бы не обращаясь к спутнику.
— Как это — «головой охотник»? — из вежливости переспросил старший лейтенант, глубоко переживая свою оплошность.
— Молодых учи. Только говори, пальцем тыкай. Охота — не ходи. Рука — не та, глаз — не та. Однако голова ещё та. Голова не та — пропал человек.
В нежный дух лиственничного бора стал вплетаться резкий запах костра.
«Ну, здесь-то я определенно почуял бы присутствие человека, — попробовал успокоить себя Семен. — Конечно, не мне соревноваться с «лесными людьми». Однако и отчаиваться не стоит».
Словно отвечая на мысли Семена, Дисанги проговорил:
— Я тебя в распадке увидел. Ты травой шел — одни верхушки шевелились.
— А говоришь, Дисанги, глаза не те! — рассмеялся Семен. — Ведь распадок, пожалуй, в полукилометре от табора и просматривается плохо.
— Нет, инспектор, не те. Не те. Нос и тот плохо чует. Раньше сильно лиственница пахла, а теперь нет.
— Может, лиственница и виновата? — мягко улыбнулся Семен, пытаясь подбодрить старика, крохотного рядом с ним. Удэгеец был в круглой цветной шапочке, в накидке, спускающейся из-под неё на сухонькие плечи, с бело-черными, как бы тигровыми разводами. Летом она прикрывает шею и плечи от гнуса, а зимой — от снега.
Они подошли к тлеющему костру, который курился, разгоняя дымом мошку, сели около.
— Лиственница осталась прежней… Ты добрый человек, милиция… Когда ворон голову стрижет, кета идет… Когда кета идет, ворон голову стрижет, осень садится на гольцы… А?
Дисанги замолчал. И Семену нечего было возразить. Действительно, одно дело — совпадение: ворон роняет перья с головы, и тогда же начинается ход кеты. И совсем другое — время, которое обусловливает и первое и второе. И не лиственничный аромат изменился, а Дисанги в старости чувствует его иначе. Нет, не сочувствия ожидал Дисанги…
Глаза старика, скрытые в морщинах, совсем сузились, и Семен не мог поймать взгляда Дисанги. Удэгеец смотрел искоса, и лицо его, которое, казалось, излучало добродушие, теперь как бы одеревенело.
Дисанги сказал неожиданно:
— Не видел чужака в тайге. Если шел — не от Горного шел. Другой дорогой… Через гольцы переходит тогда. Однако…
Третий раз виделся инспектор с Дисанги, но если бы встреча оказалась сотой, то и тогда Шухов не перестал бы поражаться наблюдательности старика. Семен чувствовал себя мальчишкой рядом с ним, учеником у таежного ведуна. Но теперь, когда Дисанги понял, зачем инспектор здесь, Шухов мог проследить за ходом мыслей удэгейца. Раз котомка у инспектора за плечами, то по её объему несложно определить, сколько времени он собирался пробыть в тайге. Инспектор один и карабин при нем. Карабин у инспектора — он идет в определенное место, с пистолетом в тайге много не сделаешь. Один идет инспектор — либо не знает точно, где браконьер, либо нет дома егеря Зимогорова.