Настораживало и тесное знакомство икена с дуротригами и друидами Темной Луны. Почти каждого римского малыша чуть ли не с колыбели пичкали россказнями о жестоких британских жрецах, об их черной волшбе и о человеческих жертвоприношениях, совершаемых в орошенных кровью священных рощах. Катон не был исключением из этого правила, к тому же ему самому прошлым летом довелось натолкнуться на подобное капище, воспоминание о котором с тех пор всегда пробуждало в нем ужас. И если Празутаг некогда каким-то краем вошел в столь мрачный мир, то глубоко ли тот, в свой черед, проник в его сущность? Кто он теперь — друид или человек? И если человек, то насколько сильна его связь с бывшими своими наставниками и товарищами по обучению? Не является ли чересчур рьяное стремление знатного молодого икена вызволить семью римского генерала из плена всего лишь коварной уловкой, чтобы заманить еще пару римлян в лапы черных жрецов?
Катон постарался унять разыгравшееся воображение. Вряд ли враги станут плести столь замысловатую сеть ради поимки какого-то центуриона и еще менее ценного в их глазах оптиона. Он выругал себя за мальчишеские дурацкие страхи, основанные на по-детски преувеличенном представлении о собственной значимости в этом мире.
И тут же припомнил, как много лет назад, еще совсем в нежном возрасте, ему вдруг понравилась валявшаяся на пиршественном столе ложка с затейливым черенком. Сцапать ее и спрятать в складках туники оказалось пустяшным делом, после чего добыча была унесена в сад и там, в укромном уголке, внимательно осмотрена. От искусно вырезанных дельфинов и нимф просто нельзя было оторваться, но тут неожиданно послышался топот солдатских сандалий и раздались громкие крики. Выглянувший из своего укрытия маленький вор увидел преторианцев, явно кого-то ищущих среди фигурно остриженных садовниками кустов. С неимоверным ужасом мальчик вообразил, будто дерзкая кража в трапезной обнаружена и теперь за ним охотится вся императорская охрана. В любой момент его могли схватить с уликой в руке и отволочь к самому Сеяну, грозному префекту преторианской гвардии. А Сеян, если хоть часть того, что шепотом рассказывали о нем рабы, правда, не задумываясь, перережет преступнику глотку, а тело его велит бросить волкам.
Шаги преторианцев звучали все громче, дрожащий мальчик закусил губу, чтоб не выдать себя случайным всхлипом. Но в тот самый миг, когда ветки, за которыми он, сидя на корточках, прятался, стали раздвигать чьи-то мускулистые руки, послышался отдаленный возглас:
— Кай! Он найден. Быстрее!
Руки отдернулись, по мраморным плитам загрохотали удаляющиеся шаги. Тихо, как мышка, Катон проскользнул во дворец и вернул ложку на место. Затем он кинулся в маленькую каморку, которую делил с отцом, и стал ждать, молясь о том, чтобы возвращение пропажи было поскорее замечено. Тогда, может быть, вопли и крики смолкнут, а мир опять станет прежним.
Отец возвратился из императорской канцелярии лишь поздно вечером, и Катон даже при слабом свете масляной лампы сумел разглядеть нешуточную тревогу на его морщинистом, обычно спокойном лице. Серые глаза вольноотпущенника обратились к сыну, и в них промелькнуло удивление: почему мальчик еще не спит?
— Тебе давно пора лечь, — шепнул он.
— Я не мог заснуть, папа, — пролепетал, изображая само простодушие, его отпрыск. — По всему дворцу носились преторианцы. Что, Сеян поймал еще одного предателя?
Отец вздохнул и печально улыбнулся:
— Нет, Сеян больше не ловит никаких предателей. Он от нас ушел.
— Ушел? Покинул дворец?
Мальчик ощутил укол беспокойства.
— Значит, я больше не смогу играть с маленьким Марком?
— Нет… ни с Марком… ни с его сестренкой.
Лицо отца исказил ужас, вызванный свежим воспоминанием о кровавой расправе над ни в чем не повинными детьми префекта. Затем он склонился к сыну и поцеловал его в лоб.
— Они покинули нас вместе со своим родителем. Боюсь, больше ты с ними не увидишься.
— Почему?
— Потом скажу. Может быть, даже завтра.
Но отец так и не снизошел до каких-либо объяснений. Зато уже с первым проблеском нового дня Катон сумел вызнать все сам, прислушиваясь к разговорам рабов, забегавших почесать языки на дворцовую кухню. Первой реакцией его на известие о смерти Сеяна было огромное облегчение. Оказывается, вчерашние события не имели ни малейшего отношения к украденной им ложке. С детских плеч свалилось страшное бремя ожидания разоблачения и наказания. Конечно, печально, что префект с детьми умер, но ведь сам-то он жив. Ничто другое в то утро для него не имело значения.
Даже теперь, по прошествии более чем десяти лет, юноша побагровел от стыда. Подобные выверты в собственном поведении заставляли его ненавидеть себя. К ним относились и переживаемые им сейчас страхи. Не приходилось сомневаться, что нечто подобное повторится и в будущем, причем не раз и не два. Катон опять ударился в размышления и, погрузившись в пучину сомнений, гадал, сможет ли он хоть когда-нибудь зажить в согласии со своим внутренним миром.
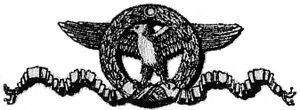
До конца дня небо оставалось уныло серым. В окружающие тропу непролазные дебри не залетало ни ветерка. Неподвижность деревьев и мертвая тишина тяготили Катона. Он убеждал себя, что все дело в рискованности затеянного предприятия, а молчаливый лес по-своему даже красив, но это слабо успокаивало. Любые сторонние скрипы ветвей или шорохи заставляли его подпрыгивать в седле и тревожно всматриваться в угрюмые придорожные тени.
Они огибали колючие заросли ежевики, когда неожиданно раздался треск, словно кто-то проламывался к дороге. Катон с Макроном мгновенно отбросили плащи за спину и выхватили мечи, лошади и пони, испуганно пятясь, заржали. Треск усилился, кусты закачались, раздвинулись — и из них, выдыхая пар, выскочил исколотый до крови острыми шипами огромный олень. Завидев всадников, он наставил на них ветвистые рога и угрожающе потряс головой.
— Убирайся! — крикнул Макрон, не сводя глаз с белых кончиков оленьих рогов. — Прочь с дороги.
Углядев просвет в кольце мечущихся, перепуганных лошадей и пони, олень ринулся к бреши. Кони шарахнулись в стороны, и благородное животное, взметая копытами опавшую листву, исчезло в лесной чаще.
Празутаг справился со своей лошадью первым, после чего оглянулся на римлян и разразился смехом. Макрон воззрился на него с яростью, но вид зажатого в его руке и изготовленного к удару меча неожиданно разрядил напряжение. Ответив на смех смехом, центурион убрал клинок в ножны.
Что-то побормотав, Празутаг натянул поводья и продолжил путь.
— Что он сказал? — спросил Макрон Боадику.
— Он не уверен, кто больше разволновался: ты или олень.
— Очень смешно. Скажи ему, что он и сам чуть было не свалился с лошади.
— Лучше не надо, — предостерегла Боадика. — Это гордец, каких поискать. Он очень чувствителен к таким замечаниям, даже сверх меры.
— Да ну? Что ж, если так, значит, между ним и мной есть что-то общее. Вот уж никогда бы не подумал. Давай переводи ему, что я сказал.
Макрон ожег девушку тяжелым взглядом.
— Давай-давай. Вперед с песней.
Празутаг оглянулся через плечо.
— Давай-давай! Вперед! — выкрикнул он, после чего, исчерпав, видимо, свои познания в латыни, перевел лошадь на рысь.
— Командир, — робко позволил себе вставить слово Катон, — не стоит доводить дело до ссоры. Празутаг единственный, кто знает дорогу. Лучше бы тебе с ним поладить.
— Поладить! — взвился Макрон. — Да этот подонок сам нарывается на хорошую драку!
— Чего мы, разумеется, не допустим, — твердо заявила Боадика. — Катон прав. Ваша взаимная и дурацкая неприязнь, разумеется, ни в коем случае не должна помешать спасению бедной женщины и детишек. Остынь.
Макрон уставился на нее, сердито посверкивая глазами. Боадика лишь пожала плечами и поскакала за Празутагом. Слишком хорошо зная вспыльчивый, но отходчивый нрав своего командира, Катон благоразумно предпочел промолчать, стараясь не встречаться с ним взглядом. В конце концов центурион, выругавшись, тронул коня, и маленький отряд продолжил путь уже в полном составе.