Орелио, епископ Валенты, поднял руку в ритуальном жесте.
— Benedicat te, Omnipotens Deus… Благослови тебя, господи, сын мой… Во имя отца и сына и святого духа.
— Аминь, — эхом отозвался Мередит.
Деревня Джимелло Миноре находилась в шестидесяти километрах от Валенты, но разбитая, петляющая дорога с резкими поворотами, затяжными подъемами и спусками не позволяла добраться до нее быстрее, чем за два часа.
Когда машина выехала из Валенты, Мередит задремал, но толчки разбудили его, и ему не осталось ничего другого как смотреть по сторонам. По альпийским масштабам холмы были невысокими, но крутыми, изъеденными ветром и дождем, как бы переливающимися один в другой, а дорога словно цеплялась за их склоны, иногда перелетая через ущелья по шатким мостикам, казалось готовым рухнуть под тяжестью крестьянской телеги. Долины зеленели травой, но сами холмы стояли голые. С трудом верилось, что римляне рубили тут сосны для своих галер и заготавливали древесный уголь для армейских кузниц. От лесов остались лишь редкие апельсиновые и оливковые плантации, окружающие виллы тех, кто смыслил в агротехнике больше остальных.
Кое-где деревни строились в седловинах холмов, вокруг маленьких церковок. Другие представляли собой цепочку лачуг, вытянувшуюся вдоль долины, поближе к воде и более плодородной почве. Тощая земля, полуразвалившиеся дома, изможденные крестьяне. Худые дети, козы, цыплята, коровы с выпирающими наружу ребрами.
В Риме Мередиту не приходилось сталкиваться с такой нищетой. Теперь он понимал, что имел в виду Орелио, епископ Валенты, говоря о глупости тех, кто шел сюда с молитвенником в одной руке и миссионерским крестом в другой. Эти люди понимали крест… Еще бы, столько лет они несли его на своих плечах и святой Калабрии мог объявить о своем приходе новым чудом хлебов и рыб, состраданием к увечным и нечистым.
Они жили в домах, скорее, напоминающих коровий хлев. Кое-кто все еще селился в пещерах, где стены блестели от капель воды. У них не было газа, электричества, водопровода. Их дети умирали от малярии, туберкулеза, пневмонии, женщины — от сепсиса и родильной горячки. Артрит скручивал мужчин прежде, чем те доживали до сорока лет. Тиф выкашивал целые деревни. Тем не менее они выживали, судорожно цепляясь за веру в бога. Только она удерживала их от окончательного превращения в животных.
Настроение Блейза Мередита падало с каждым оставшимся позади километром. Он видел себя совершенно беспомощным в окружении этих людей, умоляя смерть освободить его от их компании. Если уж умирать, то умирать с достоинством, на чистых простынях, в просторной комнате, залитой солнечным светом. Мередит гнал от себя столь несерьезную мысль, все глубже впадая в депрессию, пока наконец шофер не остановил машину на вершине очередного подъема и не сказал: «Монсеньор, смотрите! Вот они, Джимелли ди Монти — Горные близнецы».
Мередит вылез из кабины и подошел к обочине. Дорога круто скатывалась в долину, выход из которой перегораживала одинокая гора. Две ее вершины разделяла широкая, километра в два расселина. На каждой вершине прилепилось по деревушке, ниже в расселину спускались поля. Между ними петляла речушка, бегущая в долину у ног Мередита.
В глаза сразу бросилась разница между вершинами. Одна из них купалась в солнечном свете, другая находилась в тени, отбрасываемой первой. Освещенная солнцем деревня была побольше и не выглядела такой убогой, как спрятавшаяся в тени. В ее центре, рядом с колокольней сверкало белой краской большое здание, выделяющееся среди темных черепичных крыш соседних домов. Ведущая к нему дорога чернела новым асфальтом, на большой автомобильной стоянке Мередит насчитал полдюжины автомашин.
— Джимелло Маджоре, — пояснил шофер. — Видите, как помог им святой. Белое здание — гостиница для паломников.
— Он еще не святой, — холодно ответил Мередит.
Шофер развел руками и отошел. Разве можно хоть что-то доказать священнику, у которого болит живот? Блейз Мередит нахмурился и повернулся к темному близнецу, Джимелло Миноре.
На пыльной тропе, ведущей к ней, не было автомашин. Поваленные заборы, черепица, слетевшая с крыш и не замененная новой. На некоторых домах виднелись даже стропила. Единственная улица, крошечная площадь перед церковью, белье, развешанное на длинных веревках, оборванные дети, играющие среди отбросов. На мгновение мужество изменило Мередиту, и он едва не сказал шоферу, что они едут в Джимелло Маджоре. Но он тут же взял себя в руки, понимая, что его совесть никогда не смирится с таким решением.
Еще раз оглядев долину и высившуюся над ней двурогую гору, Мередит вернулся к машине.
— В Джимелло Миноре, — сказал он, садясь в кабину.
Рассказы
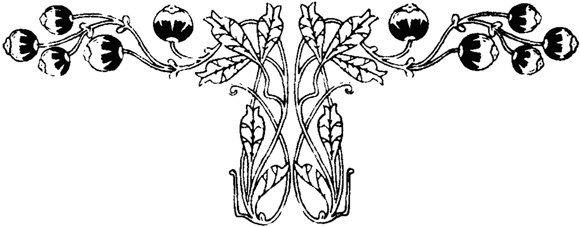
Стэнли Эллин
ВЕРА ААРОНА МЕНЕФИ
Перевод Л. Биндеман

— Карбюратор барахлит, — сказал я. — Тут уж кто-то поковырялся, да только здорово напортил.
Краснощекий стал мрачен, как грозовая туча, нависшая над нашей старой Черепаховой горой, и бросил сердитый взгляд на шофера.
— Сколько времени займет ремонт? — спросил он. — Чтоб сделать все, как полагается? Мне нужно к вечеру попасть в Цинциннати, а туда еще сорок миль. Чего доброго, опять застрянем в дороге.
— Сколько прождете, столько и займет, — говорю я. — А какая будет работа, можете спросить здесь каждого. Если машина сделана руками человека и если ее толкает вперед горючее, Аарон Менефи починит ее так, что жаловаться вам не придется.
Краснощекий глянул на пустую дорогу.
— У кого тут спрашивать? — проворчал он угрюмо, но тут же добродушно рассмеялся. — Ладно, брат Менефи, я привык хорошо думать о людях, в большинстве своем они честные и старательные. Я вам верю.
Пришлось провозиться немного дольше обычного, но в конце концов мотор я наладил, и он ласково заурчал на холостом ходу. Краснощекий, видимо, остался доволен моей работой. А когда я назначил ему плату, он и вовсе расцвел.
— Брат Менефи, — говорит, — вы еще больше повысили мое мнение о роде человеческом!
Вот тут-то это и случилось. Теперь я уверен: все предопределил Господь.
В тот самый миг, когда Краснощекий протянул мне деньги, проклятая язва принялась так свирепо грызть мой живот, что я скрючился от боли и не мог дохнуть, пока не отлегло.
— В чем дело? — испугался он. — Что с вами?
Мне стало стыдно, что я отколол перед людьми такую штуку.
— Ничего, — отвечаю. — Точнее, здесь уже ничего не поделаешь. Доктор Баклс говорит — язва. Вот и сижу на молоке, картошке да молитвах. Да только, видно, никакого проку от этого не жди.
Краснощекий смотрел на меня участливо. Не так, как большинство людей, — просто из вежливости, холодно. Нет, он по-настоящему сочувствовал. Оглядел меня с головы до ног, раза два ударил кулаком по ладони и обошел меня крутом, будто снимал мерку для костюма. Остальные стояли молча и смотрели на нас.
— Брат Менефи, — сказал он наконец. — Вы знаете, кто я?
— Откуда мне знать?
— Так вот, брат, я — Отис Джонс. Исцелитель Джонс, как меня все называют. Вы когда-нибудь слышали обо мне?
— Вроде не доводилось.
— Значит, вы никогда не смотрели по телевидению мои молитвенные собрания, не слушали их по радио? Как же так, брат, их передают по всей стране. Двести радиостанций и восемьдесят телевизионных компаний круглый год передают мои проповеди каждую среду вечером!