Энтони промолчал.
— Да, сэр, забросили, а машины, ясное дело, этого не любят.
— Как и люди, надо полагать, — эти слова напрашивались сами собой.
— Да, как и люди, — повторил Коппертуэйт, вытирая лоб влажным платком, но не стал подлаживаться под Энтони, вставать на его точку зрения. — Только люди могут сами о себе позаботиться.
Он окинул машину хозяйским взглядом, в котором читались сострадание, забота и обожание — да, именно обожание.
Внезапный импульс побудил Энтони задать вопрос, который он нипочем не задал бы при обычных обстоятельствах, будь у него время подумать:
— Почему вы оставили великолепную работу у американского джентльмена на другом конце квартала? Мне казалось, да вы и сами говорили, что мечтаете работать на «роланд-рексе».
— Так оно и было, сэр, — сразу ответил Коппертуэйт, переводя взгляд на видавшую виды машину Энтони. — Я скажу, почему… почему я там не остался. Конечно, и деньги там хорошие, и хозяин давал мне все, чего я желал, и форменную одежду, которой я не желал вовсе. Я ушел, потому что…
— Почему?
— «Роланд-рекс» — машина идеальная. Работает как часы.
— Так в чем же дело?
Коппертуэйт посмотрел на Энтони с жалостью — надо же, не понимает простых вещей.
— Да в том, что она не нуждалась в моей помощи. Она всегда была в полном порядке, я ей был не нужен, не мог… Не мог слиться с ней, она была мне как чужая. Я сидел там будто чучело — эта машина может сама ухаживать за собой, она, если на то пошло, и водить себя может сама, без меня…
Он смолк и еще раз посмотрел на дряхлую колымагу Энтони.
— Ваша машина, сэр, — не «роланд-рекс», но, пока вы в ней ездите, вы будете ездить со мной.
Это замечание показалось Энтони несколько туманным.
— Конечно, с вами, сам-то я не вожу, но что вы хотите этим сказать: я буду ездить с вами и с ней?
— Хочу сказать, что я и машина — одно целое.
Энтони постарался постичь смысл сказанного.
— Неужели эта машина так много для вас значит? — спросил он в крайнем изумлении.
— Да, сэр. Очень даже много, как и вы, сэр, хотя чуть по-другому, уж не взыщите.
До Энтони донесся звон церковных колоколов.
— Боже правый, сегодня воскресенье! — воскликнул он. — Все в голове перемешалось — я-то вас ждал только в понедельник.
— Один день погоды не делает, верно?
— Разумеется. — Интересно, подумал Энтони, а где Коппертуэйт провел субботнюю ночь? — Между прочим, я тут гулял по кварталу и заметил, что у вашего бывшего хозяина — новый шофер.
Коппертуэйт пожал плечами.
— Да, мистер Дьюк не из тех, кто долго размышляет и приноравливается, а во-вторых, кругом полно типов, которые и от выходного откажутся, если им замаячит солидная работа с форменной одеждой в придачу.
Колокола зазвонили громче. Дело шло к одиннадцати.
— Пожалуй, мне пора, — сказал Энтони Коппертуэйту, который, извиваясь, ползком, на сей раз ногами вперед, медленно скрывался из виду, будто машина сильными осьминожьими щупальцами неотвратимо засасывала его в свое темное нутро.
На перевернутом лице Коппертуэйта появились следы блаженства.
— Если вы идете в церковь, сэр, — сказал он, подергивая плечами, будто в конвульсиях, — помолитесь за меня.
— С удовольствием, — согласился Энтони. — Какую молитву предпочитаете?
— Право, сэр, не знаю, вы в молитвах разбираетесь лучше, просто помолитесь чуть-чуть за меня и как следует за машину.
— Но ей, наверное, уже никакие молитвы не помогут?
— Пока я здесь — помогут, — и с этими словами изможденное, грязное, но счастливое лицо исчезло под капотом.
Может, молитвы Энтони сделали свое дело?
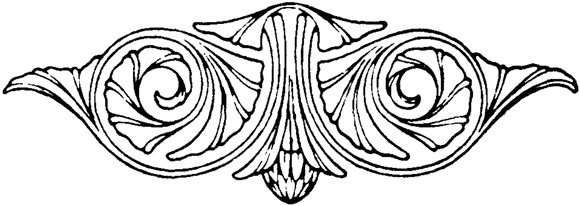
Марсель Эме
БЛАГОДАТЬ
Перевод Е. Лившиц

— Ну на что это похоже? — причитала она. — В каком свете ты выставляешь меня перед соседями и лавочниками, не говоря уже о кузене Леопольде? Нашел чем гордиться. Да это просто смешно. Увидишь, сколько пойдет разговоров.
Г-же Дюперье, этой превосходной женщине, известной благочестивым и нравственным поведением, еще не открылись тщета и суетность земного бытия. Как и многим другим, кого необдуманное слово способно сбить с пути истинного, ей представлялось более существенным угодить собственной консьержке, чем быть угодной своему создателю. Страх перед объяснениями, которые, быть может, придется давать соседке по площадке или молочнице, с первых же дней дурно отразился на ее характере. Она без конца принималась стаскивать светящийся круг, украшавший чело ее супруга, — пойди-ка поймай солнечный луч, — но не сдвинула его ни на волос. Охватывая лоб у корней волос, ореол спускался довольно низко на затылок, и небольшой наклон в сторону правого уха придавал ему оттенок кокетства.
Предвкушение вечного блаженства не заставило Дюперье забыть о своем долге по отношению к душевному покою жены. Сам он был слишком скромен и непритязателен, чтобы не сочувствовать ее переживаниям. Дары бога, особенно когда они кажутся не совсем заслуженными, порой не только не встречают должного уважения, но становятся предметом скандала. Дюперье сделал все от него зависящее, чтобы остаться как можно более незаметным. Отказавшись, не без сожаления, от головного убора, бывшего в его глазах незаменимой принадлежностью людей бухгалтерской профессии, — от котелка, он нахлобучил светлую фетровую шляпу с широченными полями, а чтобы полностью скрыть ореол, ее пришлось залихватски сдвинуть на затылок. Теперь прохожие вряд ли могли усмотреть в его облике нечто из ряда вон выходящее. Поля его шляпы несколько фосфоресцировали, что при дневном свете вполне могло сойти за блеск шелковистого фетра. На работе Дюперье также удалось избежать интереса сотрудников и директора. На крохотной обувной фабрике в Менилмонтане, где он работал бухгалтером и занимал закуток между двумя цехами, отделенный стеклянной перегородкой, его обособленность гарантировала ему защиту от нескромных вопросов. Он принял решение не обнажать голову ни в какой час дня, и никто не полюбопытствовал, из-за чего.
Но все эти предосторожности не снимали беспокойства г-жи Дюперье. Ей чудилось, что ореол мужа уже стал предметом пересудов всей округи. Она выходила на улицу с опаской, и от страха у нее перехватывало дух и подкашивались ноги. Смех слышался ей на каждом шагу. Для этой добропорядочной женщины, чье честолюбие ограничивалось принадлежностью к определенному общественному кругу и не шло дальше стремления соблюдать его законы, столь явная необычность, поразившая Дюперье, легко переросла в катастрофу. К тому же абсурдность этой необычности сделала ее в глазах г-жи Дюперье просто чудовищной. Ничто не могло ее заставить выйти на улицу вместе с мужем. Вечера и воскресные дни, проходившие обычно в прогулках и визитах к друзьям, превратились в сидение дома вдвоем, и эта вынужденная близость становилась с каждым днем все тягостнее. В гостиной светлого дуба, где от обеда до ужина тянулись долгие часы бездействия, г-жа Дюперье, не способная связать ни петельки, растравляла себе душу созерцанием ореола. Занятый по большей части благочестивым чтением, Дюперье ощущал прикосновение ангельских крыл, и блаженная радость, освещавшая его лицо, еще больше взвинчивала супругу. Муж не раз участливо поглядывал на нее, и недоброжелательность и неодобрение, читавшиеся в ответном взгляде, вызывали в нем некоторые угрызения совести, не идущие конечно же ни в какое сравнение с признательностью, которую он питал к небесам, что в свою очередь вызывало новые укоры совести.