Свиридов, выйдя из сада, перестал следить за своей походкой и выправкой. Там, у Сарматовой, ему не хотелось выглядеть в глазах англичанина, когда-то учившегося с его сыном, старым и жалким. Сейчас, шагая по темным и поэтому казавшимся мрачными улицам Таганрога, он сгорбился и устало переступал по выбоинам тротуаров.
Иван Павлович мысленно готовил себя к встрече с женой. Дома он бодрился. Иногда это ему удавалось.
Дойдя до одноэтажного особняка на Николаевской улице, Иван Павлович заставил себя подобраться. В квартиру он вошел этаким гоголем:
— А я, Анечка, представь, был у Сарматовой. Знаешь ли, ничего! Шашлык там жарят совсем по довоенному рецепту…
«Боже мой, как она постарела!» — с горечью подумал он, глядя на худенькую женщину в черном, встретившую его в передней. Женщина подняла на него заплаканные глаза и молча обняла его. Нет, ее не проведешь! Она его видит насквозь…
— Иди, чай на столе, — тихо сказала Анна Михайловна. — А тут к тебе с завода звонили. Просили сейчас же дать знать, как придешь.
— А кто звонил? — с неудовольствием спросил Иван Павлович, входя в столовую.
— Андрей Николаевич. Ну, садись же, я налью. Но Свиридов насторожился:
— Что это я ему среди ночи понадобился? Он подошел к телефону.
Анна Михайловна, присев к столу, с удивлением слушала странный разговор мужа с директором огромного завода.
— Процент брака сегодня почти не больше вчерашнего, — громко и почему-то возбужденно говорил в трубку Свиридов. — Из-за чего, собственно, волнение?
После паузы, которая, очевидно, была заполнена репликой директора, Свиридов сказал:
— Да, считаю нормальным. Не вижу злого умысла, Андрей Николаевич, нет, не вижу!
Он положил трубку, как показалось Анне Михайловне, не дослушав возражения директора.
— Чаю, чаю! Анечка, умираю — дай чаю! И с печеньем! И с вареньем!
Анна Михайловна молча налила стакан чаю, явно не доверяя неожиданной попытке мужа сыграть весельчака-чревоугодника.
Иван Павлович сел рядом с женой за стол и стал прихлебывать горячий чай.
— Всё саботаж рабочих видят, — сказал он, почему-то прищурив с хитринкой левый глаз. — Помешались они на саботаже.
— А разве не саботаж? — спросила Анна Михайловна.
— Конечно, да! — неожиданно подтвердил Свиридов.
— И ты их покрываешь?! Они ведь большевики! — Она вымолвила это слово со страхом. — Большевики!
— Ну и пусть, — упрямо сказал Свиридов.
Анна Михайловна испугалась:
— Ванечка, ты стал сочувствовать большевикам?!
Возможно ли это?
— Нашествие двунадесяти языков! — вдруг как будто совсем некстати воскликнул Иван Павлович. — Наш сын пал в бою с немцами, а тут навалились на нас и англичане, и французы, и еще несколько иностранных армий! Все напали на Россию!
— Подожди, — растерянно сказала Анна Михайловна, — не на Россию они напали, а на большевиков! Разве это одно и то же?
Свиридов немного помолчал, потом обнял за плечи Анну Михайловну и тихо сказал:
— Да, это одно и то же, дорогая.
Октябрь в январе
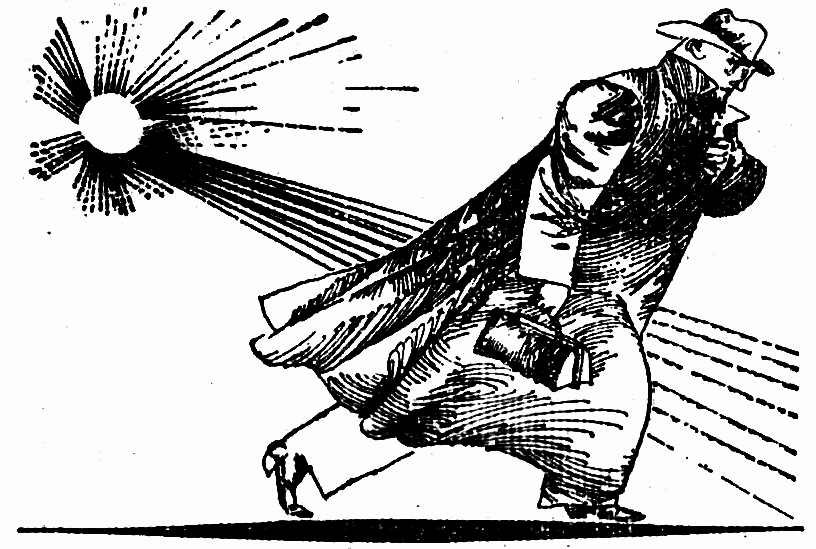
Таганрог дичал. По заснеженным улицам бродили пьяные от водки и ненависти офицеры; редкие прохожие, завидев их, пугливо сворачивали в ближайшие дворы.
В конце января 1918 года из пригородов Таганрога — Новостроенки, Камбициевки, Касперовки — двинулись вооруженные рабочие устанавливать в городе рабоче-крестьянскую власть. Юнкера местного юнкерского училища предательски стреляли из-за угла, отступая повсюду в открытых стычках. Впрочем, в здании гостиницы «Европейской» они еще держались.
Примерно в двенадцать часов хмурого январского дня 1918 года пулеметная стрельба утихла. Глухие одиночные винтовочные выстрелы еще раздавались не разберешь откуда: то ли со стороны винного склада, где засела большая группа юнкеров, то ли со стороны почты.
В начале первого человек средних лет, одетый в добротную, но несколько мешковато сидевшую на нем хорьковую шубу, нажал кнопку звонка в подъезде одноэтажного домика. На карточке, прибитой к дверям, значилась фамилия врача, родившегося, выросшего и состарившегося в Таганроге.
— Звонят, откройте! — крикнул доктор из своего кабинета. Не дожидаясь, он вскочил и быстро, юношеской походкой пошел открывать дверь.
Доктору было уже за шестьдесят. О его возрасте можно было догадаться по резким морщинам на высоком, хорошей формы лбу, по легкой седине, уже покрывшей его густые, мягко вьющиеся волосы. Вместе с тем природа сыграла с ним шутку, оставив ему на седьмом десятке звучный голос, порывистость, быструю, легкую походку и страстный интерес к жизни.
Таганрожцы любили своего старого врача, чувствуя его искренность и доброжелательство, и охотно шли к нему не только за врачебным советом. О многих своих горестях поведали они доктору за истекшие сорок лет!
Однако кому это пришло в голову притащиться сейчас за советом, хотя бы и врачебным? Кто этот странный пациент? Какая неугомонная болезнь погнала его к врачу под пулеметным огнем?
— Ну, входите, — ворчливо сказал доктор пациенту.
— Идите, сам справлюсь, — сказал он домочадцам, выбежавшим на неурочный звонок.
Пациент окинул внимательным взглядом пустынную улицу и поспешно захлопнул за собой дверь.
— Здравствуйте, доктор, — сказал он, — извините, что потревожил вас.
Доктор, не отвечая, внимательно вгляделся в лицо посетителя и, вдруг обняв его за плечи, помог ему опуститься на стул. Это было как раз вовремя. Посетитель, видимо, делал над собой усилие, чтобы не потерять сознание.
— Сердце? — отрывисто спросил доктор.
— Да… пуля, — слабым голосом ответил пациент и еле заметным движением руки показал на грудь.
Теперь доктор разглядел крохотную дырочку в ворсистом сукне шубы, как раз против сердца.
Через пять минут пациент, голый по пояс, лежал на кушетке в кабинете, доктор промывал ему ранку у левого соска и говорил:
— Здорово вам повезло, милый человек. Пуля прошла под кожей и вышла, не причинив вреда. Как иглой прошила!.. А какого черта вас, собственно, понесло на улицу?
Пациент вздохнул и сказал:
— К вам, доктор, торопился.
— Ко мне? — Доктор уже заканчивал перевязку. — Довольно оригинально: в поисках врачебной помощи получить пулю в сердце!
— Этого я не предвидел, — весело засмеялся уже совсем оправившийся пациент, поднимаясь с кушетки.
Он быстро оделся и, взявшись за шубу, стал разглядывать дырочку, проделанную пулей.
— Как вы думаете, доктор, удастся заштопать? — спросил он озабоченно.
— Не знаю, — рассердился доктор, — я не портной. Вам, кажется, больше жалко шубу, чем собственную шкуру?
Посетитель несколько смутился.
— Видите ли, — сказал он очень серьезно, — шкура — моя, а шуба-то — чужая, напрокат взятая.
— Напрокат? — заинтересовался доктор.
— У домохозяина. Неудобно, знаете ли, сегодня в центре города в своем, рабочем… Юнкерье задержало бы.
— А вы рабочий? — спросил доктор.
Пациент, не отвечая, пристально смотрел ему в глаза.
— Что такое? — рассердился доктор.
Посетитель огляделся, точно боясь, что их подслушают, и сказал, снизив голос:
— Доктор, у нас много раненых… и некому им помочь.
— Я — не хирург, я — терапевт, — ворчливо заметил доктор. — И потом — у кого это «у нас»? У большевиков? Так имейте в виду: я с вами не согласен, не согласен! Гражданская война, которую вы затеяли, сударь вы мой, это такая штука… Постойте, куда вы?!
Посетитель молча и с ожесточением натягивал на себя простреленную шубу.
— Всю жизнь свою лечили богатеньких, я и позабыл, — сурово сказал он, нахлобучив на лоб шапку. — Прощайте.
— Да, да, не согласен! — закричал доктор, торопливо кидая инструменты в большой кожаный несессер с блестящим никелевым замочком. — Погодите, чуть йод из-за вас не забыл!