…Оставшись одна, Софья Васильевна рассчитала кухарку, съехала с квартиры и сняла маленькую комнатушку за 55 франков в месяц. По утрам она отправлялась в молочную лавку и съедала чашку жидкого шоколада с хлебом – стоило это 5 франков. Потом работала дома до половины седьмого, делая лишь короткий перерыв, во время которого «завтракала хлебом и яблоками». Поздний обед обходился совсем дешево – 1 франк 25 сантимов.
Она переписывалась с Вейерштрассом, встречалась с французскими математиками. Работа ее быстро продвигалась вперед.
«Я полагаюсь на Вас просто, как на каменную гору, – писала она Александру Онуфриевичу, – и все мечтаю, как мы съедемся, когда у меня все устроится, будет какой-нибудь заработок и вообще определенное положение; теперь же, когда я в таком мрачном и озабоченном состоянии духа, мне, разумеется, всего лучше, когда я одна, или, по крайней мере, с людьми посторонними, которые ничего обо мне не знают».
Глава шестнадцатая
Последний год. Москва – Америка – Москва
В Москве Ковалевского обступила бездна разнообразных дел – все важные, срочные, необходимые.
«Ввиду прогула» он должен был уплотнить график университетских занятий и читал по 5 лекций в неделю. «Я крайне доволен своей жизнью в университете, – писал он брату в первом из посланных наконец из Москвы писем, – если бы не так много посторонних работ, то чувствовал бы себя как в раю».
Получая из-за границы от друзей-ученых большое количество окаменелостей и гипсовых слепков, Владимир Онуфриевич обращался в правление университета с просьбой выделить ему казенную мебель для хранения всех этих материалов. Но начальство на его просьбы не реагировало, и он на свои (то есть на занимаемые) деньги вынужден был оборудовать геологический музей.
«Я перетащил в свой кабинет диван, кресла, письменный стол и кое-какое хозяйство и пишу тебе за чаем уже в 12 ночи, – сообщал он брату. – Только теперь я вижу, как важно иметь свой геологический угол, где можно разложиться как следует. Я прихожу домой только спать, часто в 3 ночи и с утра 9 уже сижу в кабинете. Если бы было место, поставил бы несколько горшков с цветами, но все занято, хотя моя лично комната и большая довольно. Я увешал стены картами и завтракаю чаем с рябчиком, за которым посылаю в противоположную лавку. Юленька тоже собирается не ездить домой66, а приходить завтракать ко мне».
Однажды ломового извозчика, доставившего два больших шкафа к университетскому подъезду, увидел ректор и категорически запретил вносить шкафы, так что Владимиру Онуфриевичу пришлось отвезти их обратно. А когда он вернулся, ректор сделал ему строгий выговор и приказал в два дня удалить личные вещи из служебного помещения.
Владимир Онуфриевич знал, что во всех университетах России и Европы, в том числе и в Московском, многие профессора держат на кафедре свои материалы, необходимые для научной или преподавательской работы, и никого это не беспокоит. Он написал подробное объяснение в совет университета и просил вступиться за него. Конфликт был улажен, однако в душе Ковалевского осталось неприятное чувство, будто коллеги враждебно относятся к нему. Он, впрочем, не мог не сознавать, что слишком злоупотребляет вольностями, какие предоставлялись профессорам и доцентам. Никто из его сотоварищей не позволял себе настолько опаздывать к началу семестра, как он.
На отдельные лекции он тоже нередко опаздывал, и студентам подолгу приходилось его ждать. Однажды, торопливо войдя в аудиторию прямо в пальто и со шляпой под мышкой, он поднял над головой какой-то предмет, оказавшийся крылом убитой вороны, из-за которой он и задержался на улице. И тут же, взойдя на кафедру, «произнес блестящую импровизацию о развитии способности летать у позвоночных», как рассказал один из его учеников А.А.Борисяку. К сожалению, это единственное свидетельство о Ковалевском-лекторе.
Зато о «посторонних работах» Владимира Онуфриевича мы имеем немало его собственных свидетельств.
Он оформлял привилегии на изобретения – дело это еще не было доведено до конца, да так и осталось недоведенным67. Выполняя взятые на себя обязательства перед французским нефтяным обществом «Петроль», с которым вступил в неофициальный контакт, он писал представителям общества длинные письма, несколько раз ездил для встреч с ними в Петербург, убеждая их не начинать своего дела, а купить рагозинское, ибо вопрос о слиянии вовсе не был отклонен пайщиками, а лишь отсрочен до полного выяснения стоимости всего имущества.
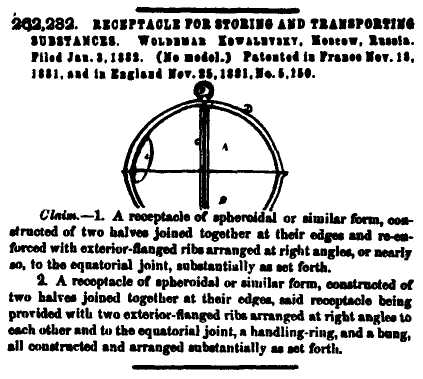
Кроме того, Владимир Онуфриевич собирал частным образом «обиженных» пайщиков и пытался втолковать им, что за Рагозиным и его компаньонами «на вере» числится большое число «лишних» паев и что, уничтожив их, можно спасти «товарищество».
Конечно, истинный просчет был в другом. В том, что «товарищество» слишком интенсивно наращивало производство, не обращая внимания на затраты, постоянно превышавшие получаемую прибыль. Пока капитал рос за счет продажи новых паев, дело выглядело процветающим, но как только приток средств извне прекратился, положение изменилось. Однако Ковалевский был убежден в своей правоте. Он тратил бездну энергии, чтобы сколотить «оппозицию» и выступить против Рагозина сплоченной группой.
Научная работа всем этим сильно тормозилась, и он должен был признаться брату: «Костями занимаюсь, но не могу отдаться им совершенно, как бы хотел». Пришлось отказаться от намерения завершить и до конца весеннего семестра защитить докторскую диссертацию. Но чем труднее и неопределеннее становилось положение, тем сильнее храбрился Ковалевский перед своими близкими и самим собой.
«Дело слияния с французским обществом, кажется, идет на лад и должно кончиться, если оно состоится, до мая месяца. Но мы изыскиваем меры, чтобы иметь возможность действовать даже и в том случае, если бы это слияние не состоялось, и нет никакого сомнения, что мы можем вести дело и сами, реформировав его по предложенному в моей записке плану, к которому пристают и пайщики […]. Мы на днях рассылаем род манифеста пайщикам от нашей группы и просим всех быть на собрании 2-го мая или прислать доверенности. Овцы-пайщики начинают показывать зубы, и, конечно, всякому, платившему за паи, улыбается мысль стребовать около миллиона с неплативших».
Однако семестр заканчивался, и Владимиру Онуфриевичу не терпелось поскорее уехать за границу. Почти все, что он предпринимал в Москве, осталось не доведенным до конца, но мыслями Ковалевский был уже далеко. «Ведь подумай, – писал он брату, – это с 1873 года первое научное лето, которое я могу посвятить работе. Почти десять лет все занимался тем, что претило душе, и жду я этого праздника как манны небесной».
Осенью Владимир Онуфриевич собирался в Америку, но теперь, снедаемый нетерпением, он хотел ехать туда даже в июне. Он взял поручение от Академии наук, которая оплачивала часть расходов, а также от министерства финансов по обследованию нефтяного и металлургического производства (оно оплачивало другую часть) и рвался вперед, словно горячий, но застоявшийся конь. «Для геолога и палеонтолога Америка то же самое, что поездка на Луну», – писал он брату.
Однако из нового его письма, от 21 апреля 1882 года, Александр Онуфриевич узнал, что Владимир приехал в Петербург по делам «оппозиции»; что он добивается перевода правления «товарищества» в Нижний Новгород и сам поедет туда через Константиново и Балахну, но к 29 апреля вернется в Москву, чтобы подготовиться к общему собранию пайщиков. И совсем уж дикими и непонятными были его слова о том, что за границей он остановится в Берлине «осмотреть воду и отвод нечистот для здешней думской комиссии», ибо собирается написать об этом «несколько писем в газеты»…