«Да, — начиная раздражаться, размышлял Седов, — действительно, Нансен с Иогансеном отправились к полюсу от своего затёртого льдами «Фрама» с провизией на сто дней и с кормом для двадцати восьми собак на восемьдесят дней. Практически это почти то же, что и у меня. Нансен не дошёл до полюса, повернул к земле, едва миновав 88-й градус северной широты. Но зато потом он целый год жил охотой, благополучно перезимовав со своим спутником в норе на холодном острове Земли Франца-Иосифа, — возражал себе Георгий Яковлевич. — Но ведь он так и не дошёл до полюса, хотя исходной точкой была широта в 84 градуса, а не в 80, как здесь. У Нансена прекрасная выносливость, но ему не хватило силы духа, чтобы продолжать идти вперёд, — пытался успокоить себя Седов. — Ну хорошо, а экспедиция Абруццкого! Ведь полюсная группа лейтенанта Каньи учла опыт нансеновского похода и предусмотрела всё, чтобы не повторить ошибок предшественника-норвежца. Группа Каньи опиралась на две вспомогательные партии. Они отправились вместе с ней и, отдав затем свои припасы, вернулись. Каньи удалось пройти чуть дальше, чем Нансену, а выходил итальянец от точки, более, чем «Фрам», удалённой от полюса. У Каньи не было навыков полярных путешествий и достаточных знаний арктической природы. Пири, как пишут, учёл опыт и того и другого. Да и тренировался он в Арктике несколько лет. И его сопровождали вспомогательные партии. Но в самом ли деле достиг он полюса? Учёные ставят под сомнение этот факт, доказательств убедительных Пири представить не мог, равно как и Кук, тоже претендующий на лавры завоевателя полюса. Да и трудно представить какие-то абсолютно бесспорные доказательства пребывания на самом полюсе, а не где-либо в районе, отстоящем от этой точки на сотни миль. Тем более что ни Пири, ни Кук не были специалистами в точных астрономических и иных наблюдениях и вычислениях. Не напрасно ведь возникли сомнения в достижении ими полюса, — утешал себя Седов, — да и не были они там наверняка. Ну а ты, у тебя есть, как тебе кажется, опыт, какого не было у Каньи, отчаянная воля, чего, на твой взгляд, недоставало Нансену, знания, коих были будто бы лишены Пири и Кук. Но зато нет достаточных припасов, собак. А главное, нет необходимых сил. Но здоровье — вещь поправимая, недостаток же припасов пугает, лишь когда много думаешь об этом. Главное, не бояться, рассчитывать на свои силы, на охоту и, что бы ни грозило, без страха стремиться вперёд. Фортуна всегда со смелыми духом».
Так рассуждал, лёжа в постели, Седов. Он изо всех сил старался укрепить свой дух осознанием бесспорности этой последней мысли. И ещё — он действительно верил в свою звезду и верил, что ничего непредвиденного не может, ну просто не может с ним случиться. Ведь себя таким, какой он нынче, сделал он сам, только сам, став, выйдя из нищих, блестящим морским офицером, которого в его тридцать шесть лет знает теперь вся Россия. Его имя в газетах, на устах учёных, известных путешественников, тысяч разных людей. Его нового успеха ждут — ведь он не раз делал заверения, что без полюса не вернётся. И что же теперь — возвратиться жалким неудачником, ничтожным хвастуном?
«Да, слишком много я, наверное, раздавал обещаний, — сокрушённо раздумывал Седов, — слишком уверенно и самонадеянно говорил: «Я добьюсь», «Я завоюю», когда следовало бы сказать осторожное: «Если будет сопутствовать мне удача», «Если позволят полярные льды». Но куда там! — горько усмехался он, вновь припоминая кошмарные перипетии «пробивания» экспедиции. — Под осторожное «если» денег на экспедицию никто бы не дал ни копейки. Проклятые деньги! Но теперь речь не об этом. Теперь надо думать только о том, чтобы выступить, наконец, к полюсу и достичь его, чего бы это ни стоило».
Другого выхода Георгий Яковлевич не видел.
Скорее бы, скорее бы уж утро!
Седов, прислушиваясь к затихавшему ветру, мучительно ждал этого утра. Он ощущал, что ждёт его с двойственным чувством — надеждой и страхом одновременно. Так, наверное, ждёт утра казни осуждённый, надеясь, что, когда поведут его казнить, явится вдруг счастливым образом указ о помиловании.
Многое передумал Георгий Яковлевич за эти часы бессонной ночи.
Догорела, угасла свеча, и холодный, какой-то могильный мрак обступил его. Жгуче захотелось засветить новую свечку. Но Седов не смог заставить себя встать.
Наконец скрипнула дверь, послышались шаги, чьи-то негромкие голоса в коридоре. Должно быть, Пищухин с буфетчиком. Ещё через минуту, тяжело ступая, прошёл по коридору Кушаков. Седов услышал даже его шумное дыхание. Утро. Значит, пора. Ну же, подымайся, твоё ведь утро!
Георгий Яковлевич почувствовал вдруг с ужасом, что ему хочется сейчас одного: лежать здесь, в согретой постели, лежать во мраке и одиночестве, никого не знать, ни о чём не думать, ничего не делать. Гулко, всё сильнее и сильнее заколотилось где-то в глубине груди сердце, заглушая и звуки новых шагов в коридоре, и хлопанье дверей. Этот стук сердца, настойчивый, мерный, напомнил: ты жив, жив, и сердце твоё зовёт тебя! Нахлынул стыд за свою слабость. Обнаружилась тяжесть в голове и щиплющая боль в глазах от напряжённой бессонной ночи.
Седов глубоко вздохнул, напряг все мышцы непослушных ног, рук, всего тела и решительно сбросил с себя тёплые укрывала, а с ними отбросил все ночные сомнения, слабости, страхи.
«Надо двигаться, двигаться и двигаться, — сказал он себе, — только так ты победишь болезнь, а вместе с ней — гнусные отступнические мысли».
Ветер незаметно стих.
Натянув на ноги пимы и набросив на плечи полушубок, Седов нащупал на столе спички, запалил свечку, взглянул на часы. Четверть четвёртого.
Ощущая своё тело непомерно тяжёлым, он вышел из каюты в полутёмный коридор, едва подсвеченный отражённым из кают-компании светом единственной там свечи.
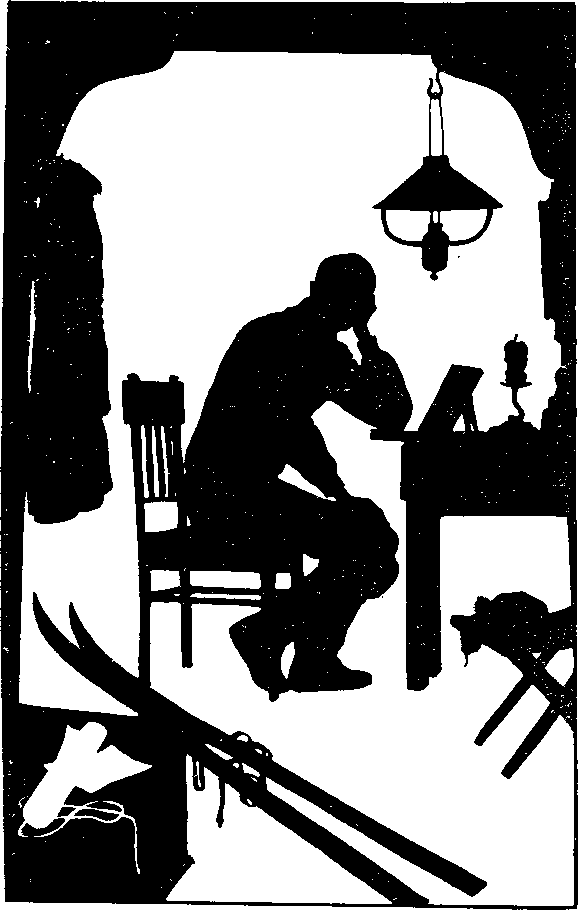
Кизино в шапке, ёжась от холода, растапливал печку. Здесь же, в кают-компании, был и Кушаков.
— Утихло, Георгий Яковлевич, — ответив на приветствие Седова, сообщил доктор, вопросительно глядя на начальника.
— Да, да. Сегодня выступаем.
Разведя огонь, Кизино отступил от печки, и Седов, пододвинув стул, подсел к ней, протянул к огню озябшие руки.
Кушаков тоже взял стул, примостился рядом. Он, против своего обыкновения, молчал, не тревожил глядевшего задумчиво и неподвижно на огонь Седова, понимая необычность, особенность этих минут наступившего решающего утра.
Седов долго сидел так, медленно поворачивая перед огнем и потирая руки.
Не отрывая задумчивых глаз от загудевшего с потрескиванием пламени, он тихо заговорил:
— Итак, Павел Григорьевич, остаётесь за меня. Будьте командиром строгим, но и — прошу вас — отцом родным для всех этих людей.
— Да, Георгий Яковлевич, разумеется, не беспокойтесь, — пробормотал Кушаков, слегка смутившись предложенной ему явно не свойственной для него ролью отца родного для людей, которых он почти ненавидел.
— Главное сейчас — дожить в мире и согласии, в общих трудах на благо науки до лета, с тем чтобы всем вам благополучно вернуться на родину.
— Я всё-таки надеюсь, что мы вместе с вами поплывём на родину, — произнёс Кушаков. Но видно было, что надежда эта казалась ему самому нереальной.
— И я, разумеется, надеюсь, — тихо сказал Седов, вздохнув. — Однако больше шансов на то, что вернёмся мы сюда уже поздней осенью. Поэтому летом вы устройте здесь для нас хижину либо землянку для зимовки, оставьте провизии какой-либо, патронов.
Кушаков молча кивал.
— Но сами нас ни в коем случае не ждите дольше начала августа, — наставлял Седов. — С вскрытием бухты всеми правдами и неправдами выбирайтесь отсюда, зайдите на Флору — быть может, всё-таки привезут уголь — и уходите на родину. Третью зимовку многие могут не вынести. Не будет топлива — что ж, разберите избу на Флоре, набейте моржей, в конце концов, жгите самого страдальца «Фоку», не нарушая, разумеется, прочности корпуса. Тут много чего ещё можно сжечь — палубы, переборки кают, обшивку, двери, да и всю эту надстройку, наконец.