— Дозволите на корабль, ваше благородие?
И ушел, сдав дворнику обязанности по дому.
Постепенно Маша стала осведомлена почти во всех делах брата. Заметив это, он ей оказал:
— Вот уж и для тебя нет больше мифов! Все очень трудно и очень просто! Кажется, тебе уже не быть провинциальной барышней, гадающей на воске о своем счастье…
Она грустно ответила:
— А ты не думаешь, что от этого мне все тяжелей? Мне тоже хочется что-нибудь самой уметь делать. Но ведь не может быть женщина штурманом или лоцманом! Остается только жалеть об этом! Так широко, кажется, на свете и вместе с тем — так тесно! Ты уйдешь в плаванье, а я… Не могу же я вернуться во Владимир. Пойми, мне нечего там делать.
— Но что должна делать девушка твоих лет? — пробовал возразить брат, почувствовав вдруг, что доводы его неубедительны. — Вероятно, то же, что делают во Владимире другие?..
Он произнес эти слова неуверенно, скорее по сложившемуся обычаю отвечать именно так, и она, не обидевшись, рассмеялась:
— А делать-то, выходит, там нечего…
Брат молчал, поняв, что, привезя ее в Петербург, он явно в чем-то просчитался. Не в доме ли Крузенштерна передалось ей это томление по делу, по суровому подвижничеству в жизни? В мыслях его опять мелькнуло о домашней неустроенности моряков, и он почувствовал себя виноватым перед сестрой.
— Вот привез тебя себе на беду! — сказал он.
Но этому она воспротивилась изо всех сил и сделала вид, что готова вернуться во Владимир без всяких терзаний.
— Я открою там ланкастерскую школу! — смирилась она.
Она часто бывала у Паюсова на перевозе и слышала, что говорят матросы о ее брате.
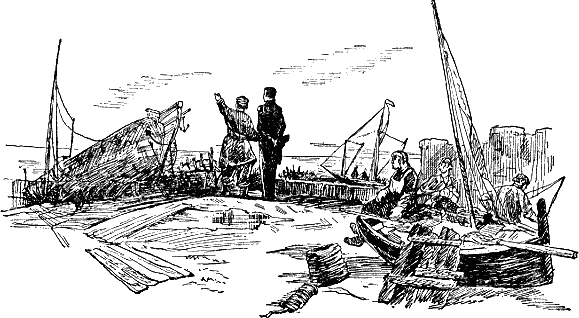
Лазарев водил на корабль охтинских мастеров и в спорах о продольной крепости судна, о «резвости» его на ходу выверял собственные представления о несовершенствах его постройки. И здесь поминали Крузенштерна, «Неву» и «Надежду», какого-то именитого корабельщика Охтина, живущего в Кронштадте. Брат не забыл ни о сомнениях Лисянокого, ни о Форстере, — часами рылся в адмиралтейском архиве и подолгу бывал у каких-то подрядчиков, заготовлявших для кораблей продукты, удивляя Машу затянувшимися, как ей казалось, бесконечно долгими приготовлениями к выходу в море. Право, можно было подумать, что экспедиция уже началась с этих приготовлений и бесед с мастерами…
Брат возил ее с собой на верфь, где переделывали транспорт «Ладогу», переименованную в «Мирный».
Пришла весна, и первые проталины заголубели на снегу. Еще недели две — и покажутся в небе журавли, держа путь на Онегу, выкинут первые почки молодые березки, и зацветет во дворе верфи низкорослая с раскидистыми ветвями черемуха. Звонче забьют колокола церквей, — сейчас звон их приглушен мутной пеленой туманов, — прояснится даль та окажется, что верфь стоит не так уж далеко от города. Приблизится Рыбная слобода, в бревенчатых крепких избах ее девушки сядут плести сети и чинить старые паруса для баркасов. Придет пасха, в больших, пахнущих сельдью корзинах принесут на корабли тысячи крашеных яиц. В этот день на корабли будут допущены все женщины и дети из слободы, семьи мастеровых, начнутся песни и танцы на берегу. Маша представляла себя в их толпе и вспоминала праздники во Владимире, только здесь все приурочено к дням, когда спускают на воду или отправляют в море корабль. И Маше начинает казаться все навязчивей, что и она скоро куда-то поплывет… А в старой часовенке, излучающей ночью на весеннем ветру тихий, дремотный свет гниющего дерева, местный псаломщик из староверов будет читать «Триодь цветную» и думать о кораблях, унесших с новыми легкими парусами и все зимние тяготы. Деревья на берегу обвяжут вышитыми рушниками, и празднично убранной станет казенная верфь. Затинув за пояс длинные русые косы, в байковых широких кофтах сойдут в лодку с пучками вербы зачахшие в домах мастерицы и возьмут весла онемевшими на холоде руками. И смотришь, лодками покроется река, а вечером зажгут фонарики, и робкое празднество это назовут карнавалом. Но «Мирному» и «Востоку» не дождаться этого дня, — кораблям идти в Кронштадт, а на них и мастеровым, нанятым Михаилом Петровичем. Он самовольничает, ссорится с чиновниками верфи, но добивается своего: до конца доведут все работы на кораблях местные мастеровые!
Туда же перебираться и Маше, оставив обжитой дом на Выборгской стороне. Приезжал Андрей, старший из братьев, звал к себе, — тоже собирается в плаванье. Но Маша уже не в силах разобраться во всех их маршрутах и не решается оставить Михаила. Кончается тем, что незадолго до того, как вскрывается Нева, очищая путь кораблям, в легких беговых санках опешит она с братом в Кронштадт. Там Рейнеке, Нахимов и Сарычев, открывающий в этом году навигацию по новым, выпущенным им картам.
Глава пятая
Беллинсгаузен прибыл в столицу в конце мая, оставив в Севастополе семью, обжитой дом на Корабельной стороне и полюбившийся ему фрегат «Флора». На нем собирался Беллинсгаузен в это лето обойти Черное море, чтобы определить, наконец, с абсолютной верностью географическое очертание берегов, бухт и мысов. До сих пор не было такого точного описания, и это немало мешало операциям молодого, набирающего силы Черноморского флота. Морокой министр вызывал Беллинсгаузена «для принятия некоторых поручений государя». Он писал об этом и в письме к вице-адмиралу Грешу, главному командиру флота. Никто не знал, что это за поручение, но Грейг отпускал своего офицера неохотно, лишаясь в его лице верного помощника. О знании им дела, о способностях его к гидрографии писал Крузенштерн, с которым Беллинсгаузен вместе ходил в кругосветное плаванье на «Надежде».
Хорошей рекомендацией ему послужила и происшедшая три года назад стычка его с чиновниками из Депо карт Черноморского флота, жаловавшихся Адмиралтейству на то, что карты, утвержденные самим адмиралтейским департаментом, подвергнуты Беллинсгаузеном сомнению. Фаддей Фаддеевич отвечал: «Сочинить карту можно в департаменте, но утверждать, доказать верность оной не иначе как можно токмо опытом». От затянувшихся споров с чиновниками отрывало сейчас Беллинсгаузена высочайшее повеление прибыть в столицу.
Беллинсгаузен был лет на десять старше Лазарева, в этом году отмечалось его сорокалетие, но выглядел он очень молодо. С годами полнел, однако полнота не утяжеляла сильную, ладную его фигуру. Светлое круглое лицо его с высоким лбом я чуть выпуклыми глазами, казалось малоподвижным и даже ленивым, при этом он отличался неожиданной живостью характера. Он был прост с людьми и не терпел барственности. В небольшом селении, около города Куресааре, на острове Эзель, где родился Беллинсгаузен, все жители были моряками. Управлять парусной лодкой должен был каждый с малых лет, как должен казак держаться на коне. Бывало, в непогоду, когда шторм захватывал в море рыбаков, церковный колокол звал на помощь, и все от мала до велика выходили на берег, Беллинсгаузен-кадет спокойно выходил один в просторы Балтийского моря, ночевал в лодке, укачиваемый волной. И теперь, будучи капитаном второго ранга, мог спать в любую бурю, привязав себя к койке.
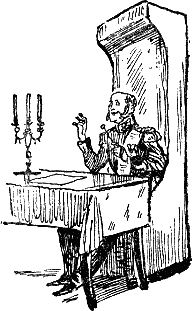
Морской министр удивил его не назначением в плавание к Южному полюсу, — о такой экспедиции поговаривали давно, — а равнодушием, с каким, передавая ему инструкции, оказал:
— Я знаю, вы сделаете все возможное. Ну, а что выше ваших сил, — никто не потребует…
Министр как бы подготавливал его к возможной неудаче. Седенький, узкогрудый, с изящными тонкими руками, которые легко держал на столе, как пианист на клавишах, с лицом иезуита, в высоком вольтеровском кресле, он меньше всего походил на моряка, тем более на флотоводца. Впрочем, он и не старался им быть. Знатный эмигрант, беглец, отказавшийся от своей родины и принятый лишь царским двором, но не Россией, маркиз Жан-Франсуа де-Траверсе, ныне Иван Иванович (так сам окрестил себя), был произведен в российские адмиралы. Он был, собственно, больше придворным, чем министром, умело прислуживал Аракчееву, но побаивался в душе своих подчиненных, таких, как Крузенштерн или Сарычев. Они немногого хотели от маркиза, лишь бы не вздумал сам плавать и не выдвигал на флот своих ставленников из иноземцев. Чувствуя ли слабость своего положения, или по мягкости характера, Иван Иванович проявлял себя «человеком покладистым», как говорил о нем старый Шишков, и по возможности старался не перечить вошедшим в славу морякам.