Элизар Магарам
ЖЕЛТЫЙ ЛИК
Очерки одинокого странника
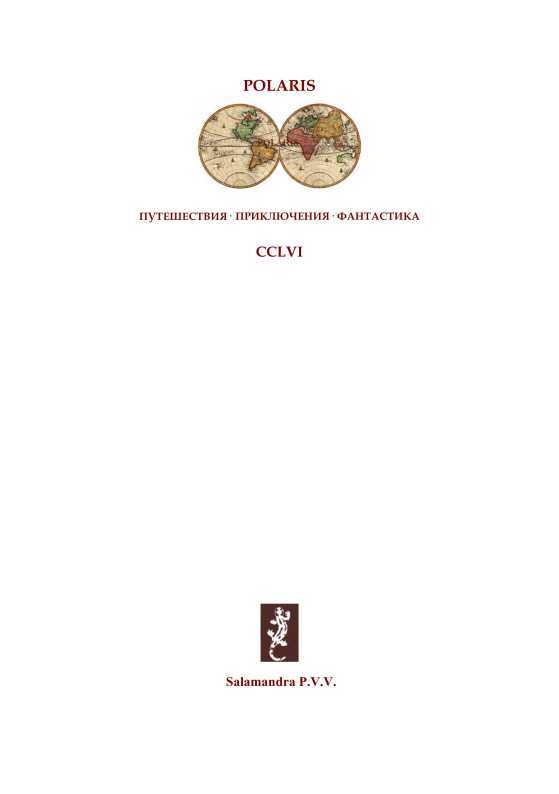


ЖЕЛТЫЙ ЛИК

Столица желтого дьявола[1]
Знойный, душный день.
Узкие кривые улочки и неожиданные проходы-проулочки тянутся змейками в бесконечную даль. Серые слепые стены испещрены черными иероглифами. Остроконечные лестницы-крыши немо глядятся в голубое небо, откуда льется жгучий поток ярких лучей полуденного солнца. Бледно-желтые косоглазые лица. Оголенные, блестящие влажным трудовым потом груди, спины и икры ног, черные, загорелые, с терпко-кисловатым запахом, как хорошо поджаренный бифштекс. Белые шелковые халаты богачей и синие, заплатанные пояски-штанишки кули и рикш. Желтые, красные, синие, зеленые и белые полотняные вывески, вышитые пестрыми, кричащими иероглифами.
Спешат, галдят, размахивают руками на ходу. Отовсюду несется звон, стук и грохот рабочего люда, стрекочут швейные машины, бьют молотками сапожники и гробовщики, монотонно стучит мотор в механической мастерской, в новооткрытой лавчонке беспрестанно визжит граммофон, с раннего утра до поздней ночи повторяющий одну и ту же пластинку китайской популярной песенки, чтобы привлечь покупателей. Кули, согнувшись под непосильной тяжестью, как пружинные куклы упруго и четко отшлепывают шаги, напевая:
— Хэ-а-хо… хэ-а-хо… хэ-а-хо…
Среди улочки, неумолчно позванивая в медный таз, бродит цирюльник. Высокий, худой, полуголый, с лысиной во всю голову и свисающими под подбородком жесткими черными усами. Он тащит на коромыслах два больших некрашеных деревянных ящика с инструментами и принадлежностями китайской косметики. Поблескивают концы остро отточенных ножей, ножниц, щипцов и металлических гребней. На веревке, через плечо, болтаются два медных позеленевших таза: маленький — спереди, на груди, большой — сзади, на спине…
С громким веселым говором проходит группа молодых китаянок в нежно-голубых, лиловых и розовых узеньких штанишках и коротеньких курточках. Ярко намалеванные, с необыкновенно пунцовыми губами и щеками, густо напудренные, с гладко зачесанными в узкие, черные блестящие косы волосами, убранными серебряными и медными украшениями и пестрыми лентами, они, вперевалку, неуклюже ступают миниатюрными, изуродованными ножками по булыжникам мостовой, покачиваясь, словно хрупкие цветы на тоненьких стебельках. Вдали кажется трогательной неровная, робкая походка этих женщин-детей, наивно уверенных в своей неотразимой прелести, наряженных и украшенных, похожих на дрессированных животных в цирке…
На углу, у поворота в переулочек, ссорятся два лампацо[2] из-за упущенного седока. Один из них — маленький, худой, с тонкими, как тростник, искривленными ногами, громко визжит высоким фальцетом, жарко жестикулируя перед самым носом соперника — высокого верзилы с рябым, изъеденным оспой пятнистым лицом и бесцветными, текучими глазками. Полуголая толпа кули и рикш обступила их и бесстрастно наблюдает за спором.
Из настежь раскрытых уличных кухонь и трактиров плывет удушливый чад и угар. На ржавых железных крюках развешены разлагающиеся ломти свинины, едва прикопченные битые птицы и сушеная рыба. Здесь же, на улице, полуголые повара готовят любимые китайские блюда, жарят рисовые лепешки, пекут уродливый красный картофель, месят тесто для лапши и пельменей, мастерят деликатесы из отбросов и требухи животных и птиц… В черных углублениях, за столиками, вокруг дымящих смрадом кухонь, кули и рикши смакуют деликатесы родной кулинарии, пьют из маленьких глиняных чашечек ароматный зеленый чай, приправленный пресными зелеными маслинами, играют в карты и кости, ожесточенно-страстно переругиваясь на своем гортанном наречии, временами разрешая спор побоищем. У входа в трактир слепой старик-нищий играет на худзине. Мальчик-поводырь с изъязвленной головой гнусаво подтягивает ему и резкий тонкий фальцет, сливаясь со скрипом худзины, по временам заглушает монотонный напев приказчика в соседней лавчонке старого платья, расхваливающего товар. Вблизи трактира скопилась толпа грязных, полуголых, безработных кули. Полуоткрытыми слюнявыми ртами они жадно вдыхают вкусные запахи пищи…
На порогах темных зловонных клетушек, у ног матерей, на задворках, среди отбросов и мусорных ям, по всем закоулкам, снуют под ноги ребята. Грязные, одичалые, блещущие оголенными тельцами и многочисленными язвами и синяками, свидетельствующими о полной беспризорности, они оглашают весь квартал своими детскими, болезненно-охрипшими голосами. Худые, желтые, старчески-сморщенные личики по-своему отражают радости бытия и беззаботности. Черные, похожие на маслины, косые глазки любопытно поблескивают, все ощупывают, примеривают, ко всему присматриваются, приглядываются. Как заброшенные щенята, неутомимо гонятся за пищей, бегают взапуски, плачут и орут, иные от обиды, а то просто от желания выкричать накопившуюся боль дикими, бурными взрывами. Иногда, когда на улице появляется европеец, игра, слезы и смех мгновенно унимаются и толпа малышей окружает прохожего, на шаг опережают его, комически-важно отдают ему честь, неуклюже, по-медвежьи прикладывая ручку к уху, или молитвенно складывают грязные лапки вместе и, потрясая ими, настойчиво повторяют на разные лады одну единственную, накрепко заученную фразу по-английски:
— Мастер, гив ми копер…[3]
Со всех сторон, словно заблудшее, блеющее стадо овец, гнусавят уличные торговцы. Всяк, по-своему напевая, расхваливает свой товар. На земле, рядом с корзинами овощей и фруктов, среди красочных куч помидоров, апельсинов, арбузов и бананов, валяются похожие на копошащуюся падаль нищие. Безрукие, безногие, слепые и глухие, с изъязвленными членами и открытыми ужасающими ранами, они ползают на четвереньках за прохожими, цепляются изуродованными конечностями за платье, целуют следы… Завидя европейца, нищие облепляют его со всех сторон, матери-нищенки бросают среди улицы, под ноги, грудных ребят, а вой и стоны оглашают весь квартал, покуда не раздастся спасительный звон медных коперов о камни…
Немного дальше слышен звон трамваев и оглушительные гудки автомобилей. Сразу, почти без перехода, узенькая улочка с высокими слепыми стенами упирается в европейский центр города. Жалкие китайские лачуги и землянки сменяют многоэтажные каменные дома, столичные магазины, внушительные здания банков и контор. Роскошные выставки серебра, золота и бриллиантов слепят глаза. В окнах модных магазинов красуются последние модели платьев, вывезенных из Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Чередуются жилые дворцы, окруженные тропическими садами, массивные, строгие контуры банков и шикарные магазины с зеркальными окнами. Мраморные лестницы обиты пестрыми, мягкими коврами. Электрические подъемные машины поднимаются с быстротой молнии на пятый и шестой этажи. Всюду красота, изящество, мраморные инкрустации, бронза, яркий блеск меди, позолота, фрески, шелк и бархат. По всем направлениям шныряют автомобили, подвижные и легкие, роскошные фаэтоны с вытянувшимися на подножках боями, кое-где пронесут в ярком шелковом паланкине полного, изжелта-бледного чиновника-китайца. По гладкому асфальту мерно хлопают пятки рикш, стонут, надрываясь, кули с искривленными от тяжестей позвоночниками.
Местами европейские магазины смешаны с японскими и китайскими лавками. На окна и двери опущены густые циновки, не пропускающие солнечных лучей, и лишь узкая, полукруглая щель остается открытой у входа для покупателей. В лавке, под потолком, неслышно жужжит электрический фэн и слабый ветерок слегка колышет белые шелковые халаты щеголей-приказчиков.