Вот они, вот они — люди со старых, застывших гравюр, только… только теперь они двигались. Пальто и платья там, на тротуарах и на мостовой впереди и позади нас, сияли свежими вишневыми, зелеными, синими, густо-коричневыми, невыцветшими черными тонами, и длинные складки переливались светом и тенью. Кожаные и резиновые подметки оставляли следы в мокром снегу перекрестков, и облачка пара в холодном воздухе делали видимым дыхание каждого из этих людей. Сквозь вздрагивающие, дребезжащие стекла до нас долетали живые голоса; я услышал даже громкий девичий смех…
На протяжении двух кварталов к нам в омнибус сели пять-шесть пассажиров: мужчина при цилиндре и в пенсне, за ним еще несколько человек, а затем, у одной из сороковых улиц, вошла женщина и прошествовала вперед к кассе, махнув длинным подолом по нашим ногам. На ней была фетровая шляпка с цветочками, простое черное пальто, длинное светло-зеленое кашне, завязанное вокруг шеи, а из-под пальто выглядывал подол пурпурного платья. На вид я бы дал ей чуть больше тридцати, и по первому впечатлению, когда она прошла мимо нас, мне хотелось назвать ее красавицей. Но вот монета звякнула о дно коробки, женщина повернулась и села вблизи, перед нами. Теперь я разглядел ее лицо и поспешно отвел глаза, чтобы не оскорбить ее; лицо оказалось изрыто десятками оспин, и я сообразил, что оспа все еще оставалась распространенной болезнью. Другие пассажиры не удостоили женщину ни малейшим вниманием.
Мы проехали мимо гостиниц «Виндзор» и «Шервуд», затем мимо постройки под названием «Старый ивовый коттедж» — вывеска в готическом стиле была растянута на всю ширину фасада. А сама постройка была деревянная, совершенно допотопной архитектуры — со ставнями и широкой верандой, на которую вели, словно в сельскую лавочку, несколько крутых ступенек. Перед фасадом прямо на тротуаре росло большое дерево, пешеходы волей-неволей огибали его, и выглядел «Старый ивовый коттедж» так, словно относился к колониальным временам.[7] Рядом на этой несусветной Пятой авеню располагался «Торговый дом Генри Тайсона» — по-видимому, просто мясная лавка.
В этот миг Кейт тронула меня за руку и хмуро повела головой.
— Сай, с меня хватит. Слишком много впечатлений. Я хотела бы… хотела бы спратяться куда-нибудь и закрыть глаза.
— Понимаю. Как не понять…
Омнибус приблизился к тротуару. Я поманил Кейт, и мы сошли как раз рядом с двухколесной пролеткой, ожидавшей седоков.
Открыв дверцу, я помог своей спутнице вскарабкаться внутрь. Когда я сел с нею рядом, голова у нее была откинута, веки смежены. Над нами что-то зашумело — я посмотрел вверх и увидел, как в крыше сдвинулась маленькая панель, образовалось квадратное окошечко и в нем появился глаз, половина второго глаза, покрасневший от холода нос и часть больших обвислых усов.
— К главному почтамту, — сказал я, вынул часы, нажал кнопку и, откинув крышку, бросил взгляд на циферблат. Было почти пять. — За полчаса довезете?
— Почем я знаю, — ответил извозчик с отвращением, цокнул языком и дернул поводья. Мы выбрались на середину улицы. — Движение нынче что ни день, то хуже, никогда теперь ничего не знаешь. Попробуем — может, еще проскочим вниз по Пятой до Вашингтон-сквер. А там свернем к Бродвею и минуем эту чертову надземку — извините, мадам, за грубость…
Я тоже откинул голову на подушки и закрыл глаза. Я уже насмотрелся вдосталь, места для новых впечатлений почти не осталось. Но когда панель в крыше задвинулась, я не сдержал улыбки: все-таки Нью-Йорк во все времена останется Нью-Йорком.
10
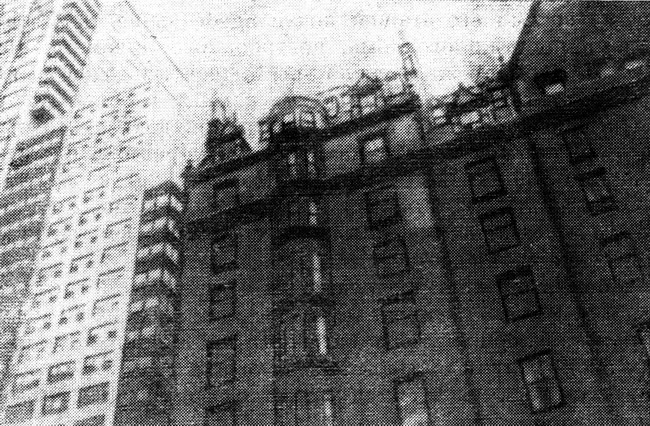
Цок-цок, цок-цок… Медленно, ритмично били копыта по плотно утрамбованному снегу, чуть громче и звонче — по булыжнику, и цокот их действовал успокаивающе, как и мерное, с легкими толчками, покачивание пролетки на рессорах. Я начал приходить в себя, кое-как совладав с избытком впечатлений, и время от времени даже открывал глаза.
Затем я услышал в отдалении исступленный звон колокола, он нарастал с каждым ударом, а когда мы пересекали Тридцать третью улицу, достиг прямо-таки сумасшедшей силы. Кейт судорожно выпрямилась, а я повернулся и увидел, как прямо на нас несется упряжка огромных белых скакунов с развевающимися гривами; оглушительно стуча подковами, они везли красную с бронзой пожарную машину, кучер изо всех сил хлестал кнутом, и за повозкой осталась плоская лента белого дыма, как за кораблем. Наш извозчик стеганул своего коня и дернул поводья, чтобы убраться подобру-поздорову с дороги. Пожарная машина промчалась через пятую авеню, сверкая красными с позолотой спицами, и все кучера и ездовые натягивали вожжи, уступая дорогу. Через четыре-пять кварталов мы опять услышали тот же звук, теперь уже с другой стороны, и я сообразил, что Нью-Йорк 1882 года, город деревянных балок, перекрытий и стен, освещается и отапливается открытым огнем.
Движение становилось все гуще и гуще. И вдруг мы с Кейт резко столкнулись, пролетка притормозила и юзом пошла к тротуару. Дернулась, проехала еще чуток, я услышал яростную ругань извозчика, опустил окно и высунул голову; шум на улице стоял невообразимый.
Мы были у перекрестка Пятой авеню с Бродвеем, и экипажи со стороны Бродвея вливались в наш поток, что еще представлялось возможным, или пытались пересечь его, что выглядело просто невозможным. Каждый экипаж, за редким исключением, имел по четыре колеса, на каждом колесе имелись железные ободья, грохочущие и скрежещущие по булыжной мостовой, и у каждой лошади — четыре подкованных, грохочущих копыта, а об управлении движением никто и не помышлял. Стучали, сталкиваясь друг с другом, колеса, стонало дерево, трещали цепи, скрипела кожа, кнуты щелкали о лощадиные бока, люди кричали и ругались, и вообще ни одна из улиц, какие случалось мне видеть в двадцатом веке, не была и в половину так шумна, как эти.
Наконец мы пробились через перекресток, и подковы мерно зацокали дальше по Пятой авеню.
— Надо бы светофоры поставить, — крикнул я извозчику.
— Чего, чего?
— Поставить сигнальные огоньки, чтобы регулировать движение, — сказал я, но он, естественно, смерил меня недоуменным взглядом и притворил окошечко в крыше.
Главный почтамт занимал треугольный участок напротив сада ратуши, там, где в Бродвей вливается улица Парк-роу. Пока мы с Кейт шли до центрального подъезда, нас разбирал смех: здание было такое нелепое, сплошные окна да декоративные колонны, поднимающиеся на все пять этажей до самой крыши, а на крыше разместились башенки, обшитые кровельной дранкой, чугунные перила, пузатый купол и еще флагшток, на котором реял длинный остроконечный штандарт с надписью «Почта».
Внутри здания оказались кафельный пол, медные плевательницы, темное дерево, матовые стекла и газовый свет. Мы обнаружили исполинскую панель с вычурными прорезями для писем, и подле каждой прорези таблички: «Центр», «Бруклин», «Стейтен-Айленд», «Пригородный район» «Современный Нью-Йорк делится на пять основных районов: Манхэттен, Бронкс, Бруклин, Куинз, Стейтен-Айленд.»; особые прорези предназначались для писем, адресованных в каждый штат и каждую территорию, а также в Канаду, Ньюфаундленд, Мексику, Южную Америку, Европу, Азию, Африку и Океанию. Позади этой исполинской панели скрывалась еще стена с тысячами личных пронумерованных почтовых ящиков. Было уже больше половины шестого; мы с Кейт заняли позиции по обе стороны панели и стали ждать.
В течение ближайших пятнадцати минут человек пятьдесят, в основном мужчины, подходили к панели и бросали письма, и надо было видеть выражение удивления и отвращения, застывшее на лице Кейт. Ибо чуть ли не каждый, не прерывая шага, издали сплевывал густую слюну, коричневую от жевательного табака, и старался на ходу попасть в какую-нибудь из десятков больших плевательниц, расставленных по залу. Некоторые были снайперами, поражали цель точно и звучно и проходили дальше, донельзя довольные собой. Другие промахивались сантиметров на тридцать и более, и, как только глаза привыкли к тусклому освещению, мы увидели, что кафель сплошь заплеван; Кейт нагнулась и, прихватив юбку пальцами, брезгливо приподняла подол.
7
Имеется в виду период до 1776 года, до начала американской революции. Нью-Йорк (под названием Новый Амстердам) основан в 1626 году, а современное название носит с 1664 года.