И каково же было Золотову, когда он, нырнув в горловину люка, увидел в кубрике, — вместо ожидаемых, матерых волков, трех ребят — посиневших, дрожащих, измученных.
Двум было лет по шестнадцати (один из них лежал), третьему не больше четырнадцати.
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — не удивленно, а скорее испуганно воскликнул капитан-лейтенант. — Кто вы, откуда ваялись?
Ребята не отвечали, исподлобья, с вызовом и затаенным страхом глядя на людей в грозных штормовых доспехах.
— Стоп! — догадался командир. — А уж не из «Устья» ли вы, Синбад-мореходы?
— Точно! Они, товарищ капитан-лейтенант, — улыбнулся кто-то из матросов. И все заулыбались.
Слово «товарищ» произвело на ребят магическое действие. Младший вдруг всхлипнул и уткнулся лицом в грубую просоленную куртку офицера. А старший как-то сразу потеплел, размяк и вроде тоже заморгал.
— Ну, полно, полно… Чего же это… Все уже позади, — прижал к себе младшего капитан-лейтенант. Молодцы ребята, просто молодцы! Настоящие моряки!.. Но скажите, друзья, — что это вы с нами кошки-мышки, затеяли?.. А?..
— Боялись, — всхлипнул, шмыгнул носом младший.
— Чего боялись? Достанется?
— Нет. В плен боялись.
— Какой такой плен? — давай, говори, — велел старшему Золотов. Тот нахмурился, опустил глаза:
— Потерялись мы, звезд нет, мотает… Блукали, блукали, решили — за границей давно уже… Ну и вас — за тех приняли… Если бы ваши… Не по-русски… — я бы ни за что… — парнишка судорожно глотнул и замолчал. Матросы притихли. Улыбка сошла, с лица офицера.
Командир порывисто притянул ребят к себе, обнял их и тут же легонько, ласково оттолкнул. Мальчишкам показалось, будто в глазах этого огромного в своих доспехах, плечистого и мужественного офицера что-то дрогнуло и блеснуло.
Повернувшись, он вроде как сердито бросил через плечо подчиненным:
— Обсушить, обогреть. И вообще…
И, резко задернув «молнию» куртки, взбежал по трапу.
К утру распогодилось. Даже потеплело. Море стало спокойнее.
Ветер сник, и только зыбь мерно колыхала уставшую злиться, посветлевшую воду.
Ребята уже отошли и рассказали, как они вздумали тайком пройтись на катерке рыбколхоза и были застигнуты непогодой.
На подходе к порту они вдруг «взбунтовались» и потребовали, чтобы их пересадили в их катерок, что тянулся за кормой на буксире. Хотя сам по себе факт буксировки уже не делает чести моряку, но буксир буксиру — рознь. И — кто знает! — но сложной мальчишеской психологии, вероятно, идти на поводу у боевого пограничного корабля было даже особо почетным.
Во всяком случае, в требовании звучала определенная морская гордость, и командир дал сигнал застопорить дизеля.
Мальчишек пересадили.
На рейде, близ входа в порт, капитан-лейтенант устало стянул с головы шлем, причесал пальцами волосы и просунул шлем в рубку, где возвратившийся с «Тритона» старший лейтенант наводил порядок в своем штурманском хозяйстве:
— Петр Васильевич, дай мою фуражку…
Не глядя, Санаев принял шлемофон, передав в обмен щегольскую фуражку командира.
— Пожалуйста. Потеплело?
— Спасибо… Так ведь не декабрь — февраль кончается.
— В самом деле? Скажи, пожалуйста!.. — равнодушно удивился старший лейтенант, поглощенный своим занятием.
Лихо, чуть набекрень, надев фуражку, Золотов посмотрел на часы: ровно восемь…
— На флаг… Смирно! Флаг поднять! — раздалась команда на кораблях. Замерли бело-черные шеренги на палубах эсминцев и крейсеров. Приветствуя собратьев, застыли «смирно» матросы и старшины на катере. Взоры их устремились к своему флагу, неяркое, прокаленное солнцем, исхлестанное ветрами и непогодой сине-зеленое полотнище которого не спускалось в эту ночь. Строгие глаза на молодых, усталых сейчас, лицах светились верностью и преданностью боевой святыне.
В торжественной тишине донесся перезвон склянок в военной бухте. На кормовых флагштоках стоявших там военных кораблей гордо поднялись бело-синие их знамена — символ и честь боевой славы русского флота.
— Вольно!..
Кораблей в гавани много. Тесно стояли они, выстроясь по ранжиру: старые громады кораблей первого ранга — крейсеров, низкие стремительные эсминцы, стальные веретена подводных лодок…
Катер под сине-зеленым флагом шел мимо них, держа к стоянке пограничного флота.
На кораблях возникло оживление. Офицеры и матросы подошли к леерам, с высоты корабельных палуб им открывалась картина, какую не каждый день увидишь.
По зеркалу гавани тихо шел скромный военный катер под пограничным флагом. Сверху он казался утюжком, медленно скользящим по морщинистому стеклу. Но этот утюжок вел и конвоировал два других катера. На одном из ник стоили с автоматами наизготовку матросы-пограничники.
На стоянке их уже ждали и встречали командир дивизиона, его заместитель по политчасти, начальник штаба, товарищи, рыбаки — родители спасенных ребят. И — тюремная машина.
Любовь, Честь и Презрение.
Что ж, каждому — свое!
Нежданно на флагманском корабле медь горниста торжественно пропела «захождение» — сигнал почетного приветствия. В первый момент Золотов не понял и повернулся, любопытствуя: какого ж почетного высокого гостя встречают на крейсере?.. И лишь затем сообразил: да это же его приветствуют, ему отдают честь — его людям, его кораблю, его флагу!
И, тронутый за самое сердце, гордый и смущенный офицер-пограничник приложил руку к фуражке. Рука чуть дрожала.
Рядом с крейсером его катер казался пигмеем. Но на этом маленьком корабле плавали мужественные, сильные люди, повседневно, буднично просто несущие большую и нелегкую службу.
Почетным сигналом «захождение» им отдавала честь Родина.
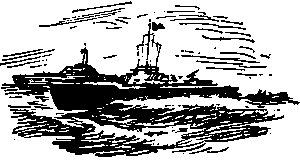
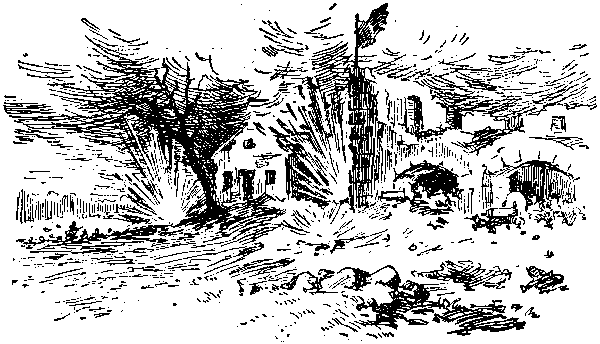
И. Гилевич
Жестокая граница
То была жестокая граница. Кто в те времена находился на Западном Буге, кто прислушивался к подозрительной возне гитлеровцев за рекой, кто задумывался о близком противостоянии двух миров, тот сердцем чувствовал, что нет в мире резче грани, нет и никогда на свете не было и не будет более жестоких границ, чем граница между страной социализма и фашистской страной.
Чувство границы издавна было волнующим и напряженным. На протяжении веков до наших дней чувство границы рождало напряженность, угрозу опасности, готовность к ее отражению. Находясь на рубеже двух государств, невольно ощущаешь душевный трепет: там, на той стороне — другой народ, другой язык, другая жизнь. Там — чужой мир… Еще со времен древней Руси (вспомните широко известную картину «Богатыри») тому, чужому миру всегда должно было противостоять и противостояло народное мужество, стойкость, решимость. А теперь, когда на том берегу, на расстоянии сотен метров оказались самые оголтелые, вооруженные до зубов, опьяненные кровью народов Европы, наглые фашисты, эта стойкость, выдержка и решимость нужны были вдвойне, втройне…
Стояло жаркое лето. Иногда лишь снизу, с поймы реки, веяло прохладой. Красное. кирпичное массивное двухэтажное здание фольварка, где находилась тринадцатая застава, высилось на холме над Бугом, как крепость, и вокруг него часто, чаще, чем всегда, маячила стройная неутомимая фигура ее начальника. Лейтенант Лопатин еще и еще раз проверял, перестраивал блокгаузы, окопы, ходы сообщения, огневые точки — все сооружения продуманной им круговой обороны.
По военному уставу, по боевому расписанию так и полагалось. Что удивительного в том, если командир проявляет заботу об укреплении своего боевого участка? Но все близкие его, все случайно оставшиеся в живых свидетели тех дней подтверждают исключительную, огромную по времени и напряжению работу, которую вложил Алексей Лопатин в укрепление подступов к заставе.
Понимал ли он, начальник заставы, предчувствовал ли, что в этих окопах ему и его солдатам скоро, очень скоро придется вести смертельный бой с врагом? Прикидывал ли он в уме, что вот тот именно бруствер, этот двойной, тройной накат блокгауза спасет жизнь ему, либо ефрейтору Пескову, либо другому пограничнику? Что направление южной или, скажем, северной бойницы, верней всего поразит гитлеровцев, нападающих со стороны луга или конюшен? Его думы сейчас неизвестны, они ушли в вечность. Но не ошибется тот, кто по делам его определит политическую и духовную зрелость, воинское умение и решимость Алексея Лопатина.