ЧАСТЬ 7
РЕШЕНИЕ
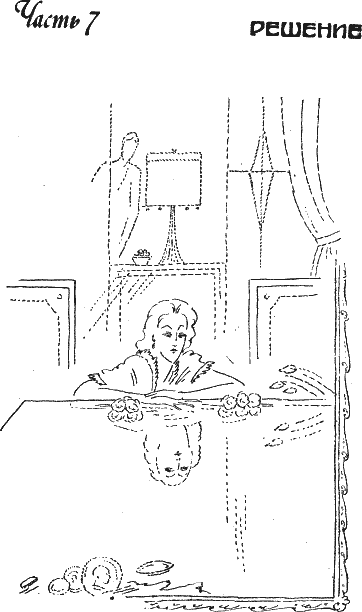
Глава 45
ОСЕННИЙ РАССВЕТ
Я проснулся очень рано и лежал, прислушиваясь к дыханию спящей Шейлы. Какое счастье, что она наконец заснула. Не одну ночь после нашей свадьбы я провел без сна, не находя себе покоя от сознания, что Шейла лежит рядом, на соседней кровати, тоже не смыкая глаз, уставясь в темноту. Так было и несколько часов назад — вернее, даже хуже, чем всегда, ибо вечером, в конце званого обеда, который мы устроили для Гетлифов, Шейла потеряла самообладание.
Из-под штор пробивался бледный свет занимающегося дня. Я лишь смутно различал очертания вещей, стоящих в комнате. Прошел почти год с тех пор, как, поженившись, мы сняли эту квартиру на Мекленбург-сквере. Я лишь смутно различал очертания вещей, стоящих в комнате, кровать Шейлы, ее тело под одеялом. Я думал о ней с нежностью, с привычной нежностью и жалостью и одновременно с раздражением, — да, с раздражением оттого, что я всегда вынужден думать только о ней, что заботы о ней поглощают все мое внимание, что через несколько часов я пойду в суд усталый и разбитый, после того как всю ночь пытался успокоить ее.
В свое время я полагал, что в состоянии представить себе, как будет протекать наша жизнь. Но никому не дано заранее представить себе свою жизнь, час за часом, день за днем. Я знал, что Шейлу пугают многолюдные собрания, и готов был пожертвовать большинством из них. Мне легко было отказаться от светских приемов. Но после свадьбы выяснилось, что наша жизнь требует от меня неисчерпаемого запаса терпения и нежности. Шейла так мучилась, что с каждым разом мне все труднее было звать ее на какой-либо прием. То, что она отгораживала меня от общества, где я любил бывать, не имело большого значения. Но она лишала меня возможности посещать «нужные» обеды, а это не могло не отразиться на моем профессиональном успехе. Выяснилось и другое. Общение с людьми не прибавляло Шейле уверенности, а наоборот. Теперь же, после нашей свадьбы, она и вовсе решила, что не способна совладать с собой.
Я часто думал, что, возможно, ей удалось бы излечиться от своего недуга, если бы она узнала физическую любовь во всей ее полноте. С моей любовью она порой мирилась: она не испытывала наслаждения, но случалось — так уж непостижимы капризы плоти! — любовные утехи забавляли ее, доставляли ей удовольствие, и такие минуты особенно сближали нас. Я старался гнать прочь мысль о том, что моя семейная жизнь не удалась, старался заставить умолкнуть голос совести, говорил себе, что даже брамины не так всеведущи, как они воображают. Половая жизнь бесконечно разнообразна. Сколько людей вкушают радости плоти путями, которые для других показались бы пародией на любовь! Я старался рассуждать хладнокровно, убеждая себя, что те, кто пишет на эти темы, сами, очевидно, мало знакомы с жизнью. Но подобные доводы не слишком успокаивали меня, когда Шейла бывала взвинчена и не позволяла к себе прикоснуться.
Я надеялся, что у нас будет ребенок, надеялся, вопреки очевидности, что появление его может все изменить и наладить нашу жизнь, но пока ничто не указывало на такую возможность.
Шейла не желала встречаться ни с кем, кроме тех, с кем она знакомилась по собственной воле. К родителям своим после нашей свадьбы она ездила только раз, на рождество, да и то лишь из чувства дочернего долга. Сам я виделся с мистером Найтом значительно чаще, ибо у нас завязались своеобразные приятельские отношения. Шейла отпускала меня к викарию, а сама в это время либо сидела одна в квартире, либо встречалась с кем-нибудь из своих непонятных приятелей. Это были весьма странные люди. Как и в годы своего девичества, Шейла чувствовала себя лучше всего в обществе людей никчемных, докатившихся до дна, иногда не без претензий, но без всякой надежды их осуществить. Она могла часами просиживать в каком-нибудь захудалом кафе, беседуя с официантом; ей поверяли свои тайны машинистки — отпрыски некогда богатых, но разорившихся семей, ныне мечтавшие о том, чтобы кто-нибудь взял их в содержанки; она охотно слушала разглагольствования писателей, почему-то никогда не публиковавших своих произведений, и писателей, вообще ничего не писавших.
Кое-кто из моих друзей полагал, что Шейла заводит себе любовников среди этих отщепенцев. Я не верил этому. Я ни о чем ее не спрашивал, не пытался выслеживать: ведь я и без того узнал бы. Я не сомневался в ее верности. Просто Шейле доставляло удовольствие утешать обездоленных. Она им сочувствовала — правда, на свой особый лад, без всякого душевного тепла. Ее трогало то, что жизнь этих людей, молодых и старых, так же безрадостна, как и ее собственная. Это сочувствие в известной степени привело ее и ко мне в мансарду, когда я был студентом.
Да, я больше не выслеживал ее. Ревность, не дававшая мне покоя, угасла вскоре после того, как Шейла стала моей. Когда она говорила — а она по-прежнему делала мне такие признания, — что кто-то ей нравится, я сочувствовал ей, гладил ее по голове, шутил. Теперь я мог слушать ее, и кинжал не вонзался при этом мне в сердце. Мне даже казалось, что, найдись человек, способный осчастливить ее, я сам толкнул бы его к ней в объятия. Да, мне казалось, что я мог бы это сделать, — я, который всего каких-то два года назад простоял холодной ночью несколько часов, наблюдая за ее окном; я, который умышленно разрушил то, что могло быть для нее счастьем!
Но с тех пор она стала моей. С тех пор я уже не раз встречал рассвет, лежа, как сейчас, подле нее без сна. Хью исчез с ее горизонта: он женился и отошел для нее в прошлое даже больше, чем для меня. (Я все еще ревновал к нему, хотя к другим перестал ревновать.) Теперь мне казалось, что, если у нее вновь появится надежда на счастье, я все сделаю — все за нее обдумаю, буду оберегать каждый ее шаг, — только бы она была счастлива.
Но я не думал, что это может произойти. Круг интересов Шейлы крайне сузился. Она прошла дальше меня по жизненному пути, хотя мы были одного возраста и я жил интенсивнее, чем она. Шейла надеялась, что я сумею чем-то занять ее. Иногда она требовала этого с такой настойчивостью, словно я обязан был жить за двоих. Эта пустота ее существования, эти страстные поиски, чем бы ее заполнить, больше всего удручали и пугали меня в Шейле. Жить за другого трудно даже при идеальных отношениях. А при наших отношениях это было выше моих сил.
В квартире она поддерживала такой же порядок, как в своей коллекции монет. Она оказалась лучшей хозяйкой, чем я ожидал, и легко постигала все связанные с этим премудрости. Домашней работе она уделяла гораздо больше времени, чем было нужно, ибо мы вполне могли нанять вторую служанку. Дело в том, что мистер Найт, то ли желая искупить свою вину перед дочерью, то ли чтобы задобрить меня, к нашему изумлению, проявил необычайную щедрость при заключении брачного контракта, так что теперь мы вместе располагали примерно двумя тысячами в год. На себя Шейла тратила немного. Лишь иногда она помогала своим друзьям да покупала пластинки и книги. Этим в сущности ее расходы и ограничивались. Я же только приветствовал бы ее расточительность. Я готов был приветствовать увлечение чем угодно, лишь бы Шейла всецело ему отдалась.
В свое время я припугнул Хью, сказав, что, женившись на Шейле, он никогда не будет знать, что ждет его по возвращении домой. Ни одно жестокое пророчество не оправдывалось столь жестоко на самом пророке! Через год после свадьбы я нередко засиживался в конторе, терзаемый невеселыми думами. Меня тревожила моя карьера. Я катился по наклонной плоскости, и если я собирался осуществить хотя бы половину своих честолюбивых замыслов, пора было браться за ум и делать новый бросок вперед. Однако этого не происходило. Практика моя росла очень медленно. Я с полным основанием подозревал, что обо мне уже не говорят как о человеке, подающем, большие надежды.
Еще одно обстоятельство начало с лета тревожить меня, немало омрачая мою жизнь. До меня то и дело доходили слухи, что Джорджу Пассанту и его кружку грозит какой-то скандал. Я навел справки, и они, увы, не рассеяли моих опасений. Сам Джордж ничего мне не сообщал, но я чувствовал, что тучи над ним сгущаются. Он то ли забыл обо мне, то ли из упрямства не хотел ничем делиться. Мысль об угрожающей ему опасности приводила меня в ужас.