Он забросил в пруд свою сеть и смотрел, как она медленно тонет в воде, оставляя на её поверхности мелкую рябь. Выждав минуту-другую, он не спеша стал вытягивать сеть на берег, где сидел Второй и наблюдал за хозяином. Щенок терпеть не мог сырости. Как и Верт, он был сухопутным, а не морским псом. Поэтому он уселся подальше от кромки воды, чтобы какая-нибудь случайная волна не намочила ему лапы.
Доуги вытащил на берег тяжёлую сеть. Он знал, что в неё угодило несколько крабов, и слышал, как они щёлкали клешнями, пытаясь вырваться на свободу. Нет уж, братцы! Он пообещал Синь, что наловит ей крабов для гумбо.
Гумбо голубой луны… Ночь голубой луны…
– К-к-красота! – сказал Доуги.
Он долго ждал этой ночи, ждал полнолуния, чтобы спеть Синь свою песню, в которой только три слова. Как замечательно, что будет гумбо! И песня. Он думал, что всю свою жизнь ждал этой ночи, волшебной ночи, главной ночи. Думая о ней, он улыбался. Его улыбка была широкой, как море.
Он принялся тихонько напевать свою песенку. Что скажет ему Синь? Ответит ли она «да»? Он напевал песню всё громче и громче.
«Да! – думал он. – Она ответит мне: “Да!”»
Подтянув сеть к берегу, он увидел крабов, щёлкающих клешнями, пытающихся вырваться из плотной снасти. Голубые крабы, которые водились у этих берегов, славились своей раздражительностью. Всякого, кто хоть раз купался в Мексиканском заливе, голубой краб обязательно хватал либо за пальцы, либо за лодыжку.
Вытащив сеть на берег, он подсчитал улов. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ровно десять. Ровно столько, сколько нужно. Так он и думал. Да.
Когда вся вода вытекла из сети, он перевернул её и стал вынимать крабов. Он брал их одного за другим, сердитых и огрызающихся, за панцирь и опускал в большой алюминиевый бак, на три четверти заполненный солёной водой. Второй направился к баку, чтобы проверить, всё ли там в порядке.
– Эй! Ост-т-торожней! – крикнул Доуги, увидев, что любопытный щенок засунул нос в бак.
Щёлк! Второй чудом успел отскочить, клешни сомкнулись в миллиметре от его носа. Напуганный и рассерженный, пёсик принялся бегать вокруг бака, на чём свет стоит ругая злобного краба: «Р-р-р-р! Тяв! Тяв! Тяв!»
Доуги рассмеялся:
– Н-н-ну, хватит! П-п-пошли д-д-домой!
Вода в баке шумно плескалась от стенки к стенке, и Доуги остановился, чтобы дать ей успокоиться.
– Сегодня б-б-будет б-б-большой д-день, д-д-дружище, – сказал он.
И Второй, словно понимая, о чём речь, с готовностью отозвался: «Тяв! Тяв!»
Доуги снова засмеялся и ответил Второму на собачьем языке:
– Тяв-тяв!
Второму очень нравилось, когда хозяин разговаривал с ним на его языке, хотя Доуги знал по-собачьи одно-единственное слово – «тяв». Зато оно могло значить так много! Чаще всего это было пожелание доброго здоровья, радости и успеха во всём. Второй повторял его всю дорогу, пока они с хозяином шли от пруда к призрачно-голубому дому, где Синь, тоже проснувшаяся ни свет ни заря, уже стояла на кухне у плиты, помешивая в кастрюле коричнево-красный соус ру для своего знаменитого крабового гумбо. Он был так популярен в маленьком мирке Устричного посёлка среди всех его обитателей!
Всё лето Доуги ждал этого дня и этой ночи. Ночи голубой луны. Много недель он репетировал свою песню из трёх слов. Простую песню, в которой было только три слова: «Будь моей женой». Вот и всё.
Почему же Доуги до сих пор не сказал Синь этих слов? Трудный вопрос. Он много раз пытался произнести их, но каждый раз, стоило ему открыть рот, слова застревали у него в горле и никак не хотели выходить наружу. Каждый раз, когда ему казалось, что настал подходящий момент, язык его становился тяжёлым, неподвижным, словно его связали верёвкой и положили на него сверху камень, поэтому слова так и оставались несказанными. А Синь только краснела и отводила взгляд. И так продолжалось, пока в один прекрасный день он вдруг не услышал от Берегини: – «Знаешь, если тебе нужно сказать что-то важное и ответственное, то проще всего спеть!»
Ну конечно же! Это так просто! Тем более что он никогда не заикается, когда поёт. А спеть ему нужно было всего-навсего три слова: «Будь моей женой». Он споёт их ей. Он будет петь эту песенку снова и снова.
А что вышло?
Всё пошло насмарку. Не было ни гумбо, ни песни из трёх слов. Только длинный, нескончаемо длинный день, полный разочарований и огорчений.
И вот сейчас, ночью, лёжа в постели, Доуги перевернулся на спину. Он чувствовал, что холодный мокрый нос Второго прижимается к его щеке. Наконец он открыл глаза и взглянул в окошко. Небо было ясным. Если шторм и надвигался, то был ещё где-то далеко.
Доуги снова закрыл глаза и отдался ночной темноте, убаюкивающему ночному воздуху. Дрёма, как большая мягкая кошка, свернулась клубком в ногах у Доуги, а Второй – у него в изголовье.
– З-з-завтра… м-м-может б-быть… с-с-спи, д-д-дружище… – прошептал он щенку.
Может быть…
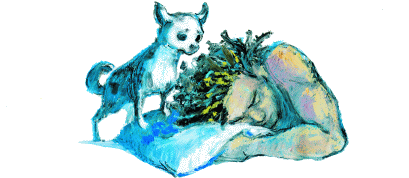
61
Сердце у Берегини бешено стучало. Наконец-то, наконец-то, наконец-то! «Стрелка» стала набирать ход! Она нацелилась на устье канала, словно сёрфборд «винтовка». Берегиня нетерпеливо подалась вперёд, будто это могло заставить шлюпку плыть ещё быстрее.
– Ну давай же! Давай! – умоляюще прошептала она.
И тут она вдруг подумала… Пожалуй, у неё как раз хватит времени, чтобы загадать ещё одно желание. Берегиня нащупала в обувной коробке ещё одну фигурку. На сей раз это была меерфрау.
Берегиня очень любила немецкую русалку – красавицу меерфрау. На ней был красивый накрахмаленный фартук, он так ладно сидел на её талии, прикрывая рыбий хвост! Боясь, что не выдержит – передумает и положит меерфрау обратно в коробку, – Берегиня размахнулась, бросила статуэтку в воду и крикнула:
– Это тебе, великая матерь!
Но буквально через секунду, услышав всплеск, с которым упала в пруд вырезанная из дерева фигурка, она почувствовала острое сожаление. Грусть и одиночество вдруг навалились на неё и тяжёлым грузом легли ей на плечи. Ведь меерфрау живёт не в морях, а в пресных водах. Например, в глубоком озере, в самой глуши старинного немецкого леса. Пожалуй, это было жестоко – бросить меерфрау в древний солёный океан. Ну пусть Ключ ещё не совсем океан, но вода в нём настоящая океанская. И очень солёная. Бедная меерфрау! Берегиня сгорбилась и замерла, обхватив плечи руками.
У её ног, съёжившись в своём спасательном жилете, лежал Верт, словно турист в палатке. Рядом виднелись взъерошенные перья Капитана, который устроился рядом с другом.
Внезапно налетевший порыв ветра с силой ударил о борт шлюпки. Верт тоненько заскулил: «Вернё-ё-ё-ёмся! Скоре-е-е-ей! Вернё-ё-ё-ёмся!» Усевшись на дне шлюпки, он прижался к ногам девочки и оставил на её коленке горячий поцелуй. Шлюпка раскачивалась вправо-влево, едва не зачерпывая воду, и Берегине пришлось ухватиться за Верта, чтобы не потерять равновесия. Наконец ветер стих.
Берегиня всматривалась в поверхность пруда. Что это там под ней, внизу? Но ничего не было видно – только бегущие навстречу волны.
– Пожалуйста, не сердись на меня, Йемайя, – умоляюще прошептала Берегиня.
Только этого ей сейчас не хватало: чтобы вдобавок ко всему на неё рассердилась ещё и могущественная владычица морей, великая Йемайя.
Месье Бошан говорил ей, что разгневанная Йемайя может наслать «во-о-о-от такой шторм!», и широко разводил руки в стороны, чтобы придать больше убедительности своим словам.
Берегиня потуже затянула свой жилет. А потом жилет Верта. Что, если Йемайя выкинет их из шлюпки? Что тогда будет?
Берегиня умела плавать. Говоря без ложной скромности, плавала она просто отлично. Каждое лето Синь записывала её на занятия в городской бассейн Тейтера. Но одно дело – плавать в чистой, спокойной, хлорированной воде бассейна, и совсем другое – в солёной воде Ключа, где без конца взад-вперёд шныряют шилохвостые скаты, не говоря уж об океане с его отбойными течениями и колодцами, с ядовитыми медузами и зубастыми акулами.