«Что бы вы сказали, Эвердина, если бы…» — он уже приготовил слова, которые хотел ей сказать.
Во дворе гостиницы Эдвард остановился.
У бокового подъезда стоял старый запылённый экипаж с кожаным верхом. Из экипажа выходила дама в чёрном шёлковом платье, та же Эвердина, но лет на десять старше, прямая, сухая, с серыми застывшими глазами, в чёрной наколке на серых от пыли волосах. Чёрно-серую даму вёл под руку пожилой человек, такой же прямой и застывший, в глухом чёрном сюртуке в пятидесятиградусную жару. Они поднялись в комнату Эвердины.
Все приготовленные слова рассыпались. Эдвард струсил. Он тихонько выбежал обратно из ворот и завернул за угол.
Прошёл день, другой, — Эдвард не приходил. Эвердина начала тревожиться.
Стоял жаркий декабрьский день кануна святок. Эвердина прикрылась от солнца светлым зонтиком и пошла по улицам искать Эдварда.
Эдвард Деккер… Она знала только имя, — больше ничего. Эдвард никогда не говорил ей, где он живёт.
Не зная, куда направляться, Эвердина пошла Старым малайским базаром.
Здесь было шумно, нестерпимо жгло солнце. В китайских рядах пахло вяленой рыбой, дурьяном, гвоздикой, чесноком. Китаец-коробейник, засунув кончик длинной косы в карман, раскладывал на земле, на полотняной подстилке, свой товар: жёлтый китайский шёлк, резные шпильки, трубки, расписные коробочки, маленьких точёных божков.
Огромные, как зонтики, красные и синие плетёные шляпы качались, блестя на солнце, у входа в малайскую лавчонку. Тут же рядом молодой малаец в дырявой шляпе, вертясь, крича и обливаясь потом, показывал всем свои мускулы, ступни, зубы, — предлагал себя в слуги.
Эвердина остановилась у лавчонки. Ей хотелось рассмотреть ближе большую голубую шляпу с белым верхом, искусно сплетённую из пальмовой соломы.
Чья-то ручная тележка едва не налетела на Эвердину. Она оглянулась и увидела: сначала горку бананов на тележке, за бананами — битых рождественских гусей, а за гусями — Эдварда, лилового от жары и от усталости.
— Эдвард, неужели это вы? — вскрикнула Эвердина.
— Эвердина! — ахнул Эдвард. Ручка тележки выскользнула у него из рук.
— Почему вы не приходили, Эдвард?
Эдвард молчал. Нагнувшись, он ловил упавшую ручку.
— Я так вас ждала, Эдвард!…
Эдвард не отвечал.
Бананы рассыпались, битые гуси сползли на мостовую…
Как только товар был сгружён, Эдвард снова подошёл к Эвердине.
— Уйдём, отсюда, — сказал он.
Он взял её за руку и увёл далеко от базара, за Тигровый овраг, на глухую немощёную улицу, поросшую травой. Здесь он сел рядом с нею на землю у чьего-то дома.
— Я прятался от вас, Эвердина, — сказал Эдвард.
— А я вас искала, Эдвард…
— Я прятался не столько от вас, сколько от ваших родных.
— Вы сделали что-нибудь дурное?
— Нет, я только хотел попросить вас о том, на что они никогда не согласятся.
— О чём же?…
Загорелая рука Эдварда легла на нежную, ещё совсем белую руку Эвердины.
— Что бы вы сказали, Эвердина, если бы человек, не имеющий работы, угла, денег…
— Да, Эдвард?…
— Человек, презираемый и гонимый всеми, не принятый в так называемом «хорошем обществе», человек, которого считают сумасбродным, неуравновешенным, почти безумным… если бы такой человек решился просить вашей руки?…
Смеющиеся глаза Эвердины сделались серьёзными.
— Что бы я сказала?… Я сказала бы, Эдвард, что если этот человек — вы, то я согласна.
Через минуту они уже шли вместе к гостинице Эвердины, так и не вспомнив о тележке с продуктами, оставленной на базаре…
— Расскажите мне всё! — потребовала Эвердина.
И Эдвард рассказал ей всё: о Суматре, о баттаках, о генерале Михельсе и о натальской кассе.
Предельным сроком для первого взноса в пятьсот гульденов, в счёт погашения натальской суммы, Батавская палата назначила первое января 1843 года.
До срока оставалось шесть дней.
— Пятьсот гульденов? У меня есть ровно пятьсот гульденов — наследство матери, — обрадовалась Эвердина.
— Это невозможно! — сказал Эдвард.
— Это надо сделать! — сказала Эвердина.
Она сама внесла в палату первые деньги.
Возможность работать в колониях вновь открывалась перед Эдвардом.
Можно было начинать с того же: младшим контролёром на Яве, на Целебесе или на Амбойне.
На Яве был голод, на Целебесе — волнения, на Амбойне — восстание.
— Вы должны обещать мне, что станете, наконец, разумным! — просила Эвердина.
И Эдвард обещал Эвердине стать «разумным».
Глава пятнадцатая
НА НОВОМ МЕСТЕ
В старый дом на окраине Рангкас-Бетунга, маленького бамбукового городка западной Явы, приехал новый ассистент-резидент, Эдвард Деккер, с женой и маленьким сыном.
В первый же день Эдвард осмотрел дом и усадьбу.
Сад давно заглох, дом был старый. Одной стороной он выходил на пустынную дорогу, другой — на заросший колючками глухой участок. Затопленные рисовые поля подходили к дому с третьей стороны, и после дождя, когда переполнялись канавы, огораживающие поле, мутная вода затекала под самую веранду дома.
Эдвард занялся садом. Он хотел отвоевать у колючего пустыря место для цветника. Сам вскопал лопатой землю перед низкой верандой, очистил от сорняков и посадил на клумбах европейские цветы: астры, левкои.
В душной сырости тропиков, точно торопясь, в шесть-восемь дней из земли поднялись буйные побеги. Но вместе с цветами вставала опять высокая колючая клагга, кактус, ещё какие-то упрямые серо-зеленые колючки, и через неделю-полторы Эдвардова сада нельзя было отличить от колючей путаницы окружающего пустыря.
Эдвард снова расчистил свой участок. Он выполол сорняки, углубил канаву.
— Если тебе что-нибудь удаётся, продолжай работать, — твердил Эдвард. — Если не удаётся, — всё равно продолжай!
Тринадцать лет прошло с того памятного для Эдварда восемьсот сорок третьего года. Многое изменилось с той поры. Тогда он был беден, безвестен и гол, сейчас занимал почётную должность помощника самого резидента. У него был сад, дом, слуги. Он и лицом и движениями мало походил теперь на прежнего Эдварда. Тот был порывист, робок и быстр, — этот нескор и осмотрителен в движениях. Кто знал когда-то его отца, капитана Деккера, тот нашёл бы сейчас, что Эдвард стал больше похож на отца. Он рано начал сутулиться и привык к трубке. Желтизна легла на его лицо, — желтизна кожи европейца, который слишком долго живёт в тропиках.
Ява, Целебес, снова Ява… Нигде Эдвард не служил дольше полутора-двух лет. Он срывался и просил перевода или его переводили без его просьбы. «Способный чиновник! — говорили о Деккере в Колониальном управлении. — Способный чиновник, но сумасбродный, невыдержанный человек!»
В Пурвакарте был голод, в Менадо — волнения, на Амбойне — восстание. Эдвард везде заступался за крестьян и везде ссорился с властями.
— Ты мне обещал! — говорила Эвердина.
— Да, Эвердина, но разве я сейчас неправ?
— Конечно, Эдвард, ты прав! — И они переезжали в другое место.
Маленький Эдвард родился у них в Менадо на Целебесе, в загородном доме среди какаовых деревьев.
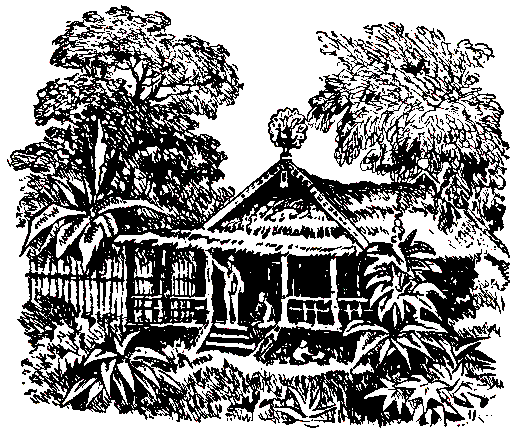
Им дёшево сдали тогда в наём просторный дом на заброшенной плантации. Какая-то болезнь разъедала стволы какаовых деревцов на этой плантации, — должно быть, от паров соседнего вулкана. Плантация стала бездоходной, и владелец оставил её. Они с Эвердиной были одни в большом запущенном доме с деревянными колоннами. Какаовые деревца стояли голые, зато вокруг дома круглый год цвела красная и белая азалия. В Менадо они провели три спокойных года. Потом у Эдварда опять вышло столкновение с властями, и их перевели сюда, в западную провинцию Явы.
Им обоим понравилось в Рангкас-Бетунге. Дом был просторный, стоял в стороне; резной деревянный павлин распускал крашеный хвост на крыше дома.