— Ладно уж, — буркнула надзирательница. — Заготовь писульку. Утром сменюсь, прихвачу.
«Верный мой Петя! — написала Клава на клочке бумаги, когда Пахоркина вышла из камеры. — Срочно передай всем, всем нашим. Пусть в тюрьму никто из них ни под каким видом не приходит. За мной следят. К. Н.».
Очная ставка
Наконец-то Клаву вызвали на допрос.
Её встретил обер-лейтенант Штуббе. Рядом с ним сидел уже знакомый Клаве переводчик.
Штуббе долго и пристально разглядывал Клаву, словно обдумывал, с чего начать допрос. Потом он ровным голосом заговорил о чём-то с переводчиком.
— Обер-лейтенант предлагает вам, — обратился переводчик к Клаве, — во избежание неприятных последствий признаться во всём чистосердечно и откровенно.
Штуббе ткнул пальцем в красные пионерские галстуки, что лежали на столе.
— В чём именно?
— Вы были пионервожатой? — спросил переводчик.
— До войны — да, — ответила Клава. — Но об этом знает весь город.
— Вы комсомолка?
— До войны — да. И об этом также всем известно.
— Рассказывайте дальше, — предложил переводчик.
— Дальше ничего не было. Началась война, и я поступила ученицей в швейную мастерскую. Никуда почти не ходила. Вот и всё. — Клава с трудом перевела дыхание.
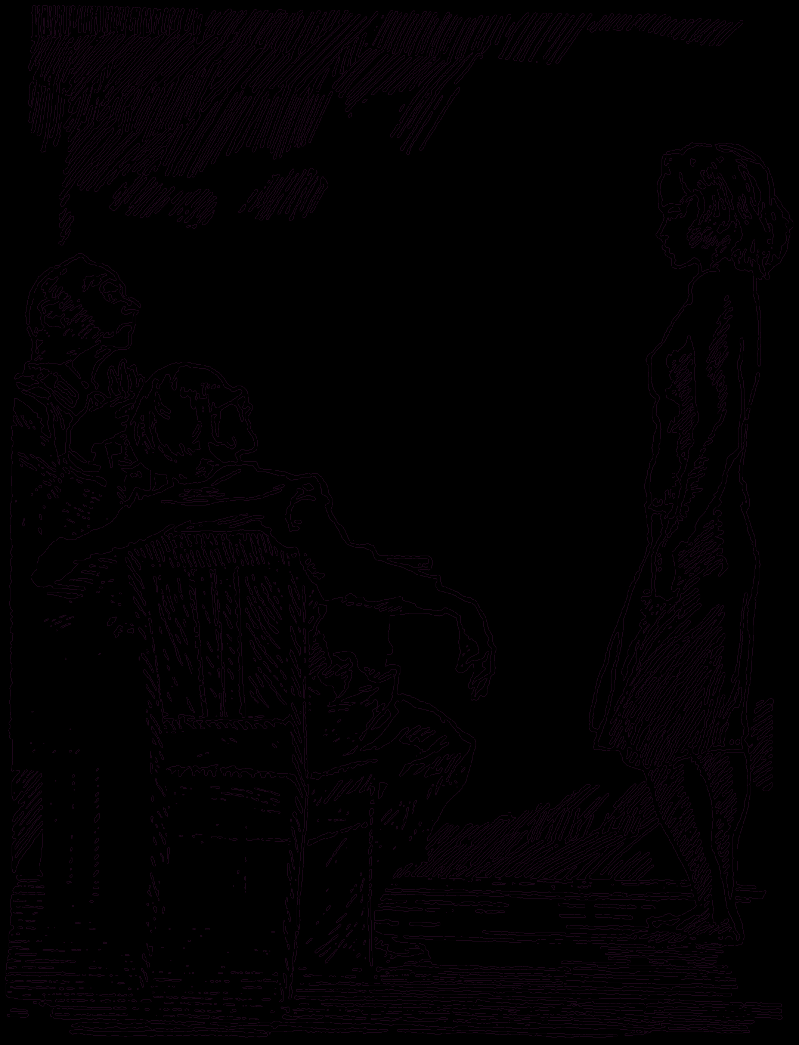
Мягко улыбнувшись, Штуббе с сожалением покачал головой.
— Напрасно упорствуете, Назарова, — миролюбиво сказал переводчик. — Нам всё известно. Вы были связаны с партизанами и по их заданию вели разрушительную работу в городе. И вы действовали не одна. У вас была подпольная группа. Сами понимаете, что мы должны знать всех тех, кто вам помогал.
— Я вам уже говорила, — повторила Клава. — Я швея, ничем другим не занималась, никаких связей у меня не было…
— Но у нас есть неопровержимые доказательства, что вы говорите неправду, — перебил Клаву переводчик и, не спуская с неё глаз, медленно произнёс: — А что вы скажете о Владимире Аржанцеве? Или об Анне Костиной?
«Володя!.. Аня! — молниеносно пронеслось в мозгу у Клавы. — Неужели они попались и тюремщикам что-нибудь удалось из них вытянуть? Нет, этого не может быть…»
— Надеюсь, что вы не будете утверждать, — продолжал переводчик, — что вы не знаете этих молодых людей?
— Да, я их знаю, — выдавила Клава. — Встречала до войны в школе… на выпускном вечере. Потом видела несколько раз в городе.
— И это всё?
— Всё.
Штуббе что-то сказал переводчику и нажал кнопку звонка.
— Ну хорошо, допустим, — усмехнулся переводчик. — А вот этого человека вы помните? — И он обратил глаза к двери. Туда же посмотрела и Клава. Вскоре дверь открылась, и часовой втолкнул в комнату высокого громоздкого мужчину. Плечи его были опущены, тяжёлые большие руки, как плети, безжизненно висели вдоль тела, левый глаз затёк от багрового зловещего кровоподтёка.
Клава вздрогнула: хотя и с трудом, но она узнала в этом избитом человеке Ключникова.
— Ну-с, — обратился к ней переводчик. — Узнаёте?
Клава, не сводя глаз с Ключникова, молчала.
«Значит, их захватили, — соображала она. — Ключников еле держится на ногах. Видно, его пытали. Но где же Шошин? Где Володя? Что с ними?»
Клава всё пыталась поймать взгляд Ключникова, но тот стоял, опустив голову, сутулый и весь какой-то надломленный.
— Молчите? — повысил голос переводчик и обратился к военнопленному: — Тогда вы, Ключников, скажите. Узнаёте эту особу?
Ключников с трудом поднял голову, тоскливо взглянул здоровым глазом на Клаву:
— Она это, Назарова.
— Расскажите, каким образом вы познакомились с ней.
— К партизанам обещала переправить, — глухо заговорил Ключников. — Меня и Шошина. Проводника дала, оружие… Да вот не повезло нам, на засаду нарвались…
— Это сейчас не имеет значения, — перебил его переводчик. — Важно главное. Вы подтверждаете, что Назарова при помощи своих друзей пытались переправить вас к партизанам?
— Чего уж там, — со вздохом признался Ключников. — Было такое дело…
— Так как же, Назарова? Будете продолжать запираться? — спросил переводчик.
Клава, которой уже многое стало ясным, вдруг обрела спокойствие.
— Я этого человека вижу первый раз, — негромко и раздельно произнесла она.
— Ну, знаете… — вспылил, поднимаясь, переводчик и приказал Ключникову подойти ближе. — Может, вы ошиблись? Посмотрите на неё ещё раз.
— Нет, это она. — Ключников исподтишка покосился на Клаву и вдруг заговорил почти умоляюще: — Да что там, деваха! Попалась — так уж попалась. Семь бед — один ответ.
«Он трус и предатель», — пронзила догадка Клаву, и она холодно скользнула взглядом по лицу Ключникова.
— Повторяю, я этого человека не знаю.
— Довольно! Хватит! — заорал вдруг Штуббе, стукнув ладонью по столу. Он поднялся, вышел из-за стола и, не спуская с Клавы своих водянистых выпуклых глаз, медленно двинулся к девушке.
Клава твёрдо выдержала его взгляд. В ту же секунду тяжёлый удар по лицу отбросил её к стене…
Убедившись, что ни очная ставка с Ключниковым, ни милостивое разрешение получать передачи, писать на волю письма и видеться с товарищами не помогли им разоблачить Назарову и выявить её помощников, гестаповцы прибегли к испытанному способу обращения с заключёнными — к физическим пыткам и истязаниям.
Теперь Клаву вызывали на допрос почти ежедневно и почти каждый раз жестоко избивали. В первое время с ней самолично расправлялся обер-лейтенант Штуббе, потом он стал поручать это низшим чинам. Клаву били кулаками, резиновыми палками, солдатскими ремнями с пряжкой, жгутом, скрученным из провода, или просто пинали тяжёлыми сапогами.
Вначале Клава всё ещё продолжала ссылаться на то, что она только швея-ученица, безвыходно сидела в мастерской, никого не видела и ничего не знает. Потом она стала отмалчиваться, до крови прикусывая губу, чтобы не закричать от дикой боли.
Нередко после допроса Клава уже не могла добраться до своей камеры, и солдаты волокли её туда под руки.
В камере она подолгу стояла у окна или дремала, сидя на койке.
— Ты бы легла, передохнула, — жалостливо говорила ей надзирательница. — Не дай бог, завтра опять на допрос позовут.
— А мне сидя удобнее. Уж очень матрас у вас жёсткий.
Пахоркина потрогала матрас: он был тонкий, пролёжанный, через него прощупывалась каждая доска на койке — и поняла, что спать на таком ложе избитому человеку — одно мучение.
В течение нескольких дней она, таясь от тюремного начальства, таскала в камеру стружки, солому, набивала ими матрас, и только тогда Клава смогла спать по-человечески. Потом надзирательница раздобыла для Клавы баночку с какой-то мазью и посоветовала растирать на ночь зашибленные места.
— Ох, Клаха, Клаха, — удручённо говорила она, — и что они с тобой делают? Вконец замордуют, живого места не оставят.
— Вы только маме не говорите, что меня бьют, — испуганно шептала Клава.
— Я и то молчу. А только она всё равно чует, что худо тебе. И плачет целый день.
— А знаете что, — попросила Клава, — подведите маму к глазку. Пусть она на меня посмотрит.
— Куда тебя такую! Ты же вся битая, сеченая. И левый глаз у тебя затёк.
— А я… я здоровым глазом ей покажусь.
В сумерки, когда Евдокию Фёдоровну выпустили в коридор топить печь, надзирательница позволила ей заглянуть через глазок в камеру дочери.
— Бьют тебя, доченька? — с тоской спросила мать, вглядываясь в тускло мерцающий глаз дочери.
— Что ты говоришь, мама? Ничего даже похожего… — Клава старалась говорить бодро и даже весело.
— Чёрная ты стала… поземлела вся.
— Умываюсь редко. Воды здесь жалеют, — поспешно заговорила Клава. — А так я жива-здорова. Носки штопаю, рукавицы шью. Скучно вот только.
— На прогулке Аню Костину встретила, — зашептала мать. — Её тоже на допрос вызывали. Только она им ничего не сказала. Говорит, что ничего не знает.