— Ты напрасно думаешь, что я хочу тянуть время, — спокойно ответил Жутаев. — Я готов хоть сейчас формовать. Но ведь чтобы работать, цех нужно отопить? Говори: нужно?
— Нужно.
— Ведь там холодина. Руки замерзнут — и ланцетку не удержишь. Да и формы могут размерзнуться. А что, разве не так?
— Могут, конечно.
— Ну вот. А землю подготовить нужно? Тоже не минутное дело. Да что тебе рассказывать, ты не хуже меня все это знаешь.
— Горячиться, товарищи, к торопиться нам нечего, — вмешался в спор Маврин. — Давайте решим так: сегодня подготовим все, а что готовить — говорите вы: вы лучше знаете. Требовать не стесняйтесь: все, что нужно и можно, будет сделано. Договорились, товарищи?
Жутаев вопросительно взглянул на Мазая.
— Договорились, — согласился Мазай.
— А если так, цех в вашем распоряжении… Хозяйничайте. Да, я позабыл спросить: довольны вы своей квартирой? Сменить не требуется?
— А мы уже одну квартиру сменили. Перешли на другую, — сказал Мазай.
— Вот как! Почему? — сразу посуровев, спросил Маврин. — Я посылал вас к Баклановым. Эго же очень хорошая семья.
— Правильно, товарищ директор. Но там случилась одна… как бы вам сказать… неприятность.
— Оставаться у Баклановых нам было нельзя, — пояснил Жутаев и вкратце рассказал, почему они ушли от Баклановых.
Маврин с напряженным вниманием слушал и, покачивая головой, возмущался:
— Опозорил семью! Опозорил навсегда. Отец-то его в эмтээс работал — чудный работник. Сейчас он в госпитале. На танке воевал. Мать — хорошая работница, тоже прекрасный человек. Деда все уважают. Вообще фамилия Баклановых — знатная у нас. И вдруг… У кого же вы остановились?
— У Сериковых, — сказал Жутаев. — Хозяйка наша, видно, хорошая женщина. Мы сначала попросились только переночевать, утром хотели уйти, а она не отпустила. Дали слово остаться у них.
— Если так, живите там. Сериковы тоже уважаемые люди.
НА ФРОНТ!
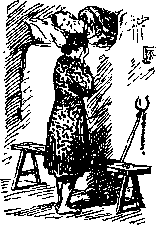
Ему страстно захотелось быть сейчас не дома, а в ремесленном училище, будто и побега не было и все идет по-старому. Пусть бы Васька еще раз заставил чечетку выбивать, пусть бы он командовал им по-всякому — это было бы лучше, чем то, что случилось вчера.
Егору вспомнился последний его день в ремесленном училище. Вспомнилась и ссора Мазая с Жутаевым. И обидно ему стало, обидно на себя. Вот ведь Жутаев, хоть, видно, и слабее Мазая, а не струсил же перед ним, ничего не побоялся. И кинулся-то на Мазая не потому, что хотел затеять драку, а потому, что Мазай страшно обидел его. «Вот Жутаев не дал себя в обиду, — думал Егор, — а я все сносил. Придирались ко мне, а я молчал. Потому что я боязливый. А если бы не молчал, упирался, ничего бы Мазай не смог поделать. Наоборот, Мазаю бы и попало от дирекции: он ведь во всем виноват. Теперь-то Мазаю что! Даже не остался у нас на квартире, ушел, как от дезертира. Ему вроде даже стыдно разговаривать со мной. А никто того не знает, что сбежал я из-за него, что это он довел меня до точки, так, что все в ремесленном противно стало. И глаза бы ни на что не глядели. А вот скажи теперь об этом — никто не поверит, будут говорить, что нужно было раньше думать, что нечего было молчать. И я же опять виноватым останусь».
Егор лежал на кровати, где должны были спать Мазай и Жутаев. Он боялся пошевельнуться, чтобы не разбудить деда, спавшего на печке, или мать. Анна Кузьминична спала в другой комнате, но Егор знал, что сон у у нее всегда чуткий и малейший шорох разбудит ее.
«Взять бы сейчас одеться тихонько и уйти, — подумал он. — Так же уйти, как ушел из ремесленного. Никто и не увидит и не услышит. Только потом узнают. Потом пускай узнают, все равно».
Но куда уйти? Некуда! Из ремесленного можно было сбежать домой, а вот из дому — некуда. Он подумал о фронте. Может быть, и вправду попробовать податься на фронт? Идут же туда люди добровольно. И принимают их.
В горнице послышался шорох, потом осторожно открылась дверь, и мать, чуть слышно ступая босыми ногами, прошла прямиком к печке.
Хотя в комнате было темно, Егор крепко закрыл глаза, боясь показать, что он тоже не спит.
— Папаня! — шепотом окликнула Анна Кузьминична.
— Ну?
— Вы не спите, папаня?
— А ты разве спала?
— Какое там спала! До сна ли мне. Не придумаю, как теперь быть, куда деть свою горькую головушку.
— А мне небось все равно? — с упреком сказал Кузьма Петрович. — Такое дело получилось — не знаешь, как людям в глаза глядеть.
— У меня голова трещит, папаня, поднять ее не могу. Ой, не думала я, не гадала! Сказали — так не поверила бы.
— Я сразу заметил — не в себе он, а ты и слушать не хотела, да еще обиделась.
— И не говорите, папаня… Не знаю, как дальше жить и что делать! Он и сам вроде прибитый.
— А оно всегда так бывает, если у кого совесть нечиста. Всегда. И скрыл бы человек, да не выходит…
Анна Кузьминична зашептала так тихо, что Егор перестал разбирать слова. Густой шепот деда прервал ее неслышную речь:
— А ты по головке его погладь, поплачь над ним: мол, несчастненький, обижают тебя. Ничего, что сбежал да опозорил на все село, — переморгаем, таковские.
— Папаня, ну для чего вы так говорите? Я же сама не маленькая и все понимаю. Жалко его, очень жалко, только и другое скажу: обиды и горя во мне куда больше нынче, чем жалости.
— Узнаешь тут, чего больше, чего меньше…
Анна Кузьминична отошла от печки и так же тихо прошла мимо Егора в горницу. Прислушиваясь к каждому звуку, Егор догадался, что она не легла, а стоит посреди комнаты. Что она там делает? Может, плачет? А может, взялась руками за голову и стоит с закрытыми глазами, ни о чем не думает и ничего не видит? Но вот раздался приглушенный вздох, какой-то шорох, чиркнула спичка, и в дверной щели показался свет. Егор понял, что мать решила вставать. Значит, она сейчас войдет с лампой, начнет растапливать печь… Егор отвернулся к стенке.
За завтраком все молчали, и видно было, что каждый ест не потому, что ему хочется есть, а так нужно, так принято и не взять в руки ложку нельзя.
Анна Кузьминична убрала комнату и стала собираться на работу. Она то и дело поглядывала на Егора, ожидая, что он скажет что-то утешительное, но Егор сидел у окна, уставившись глазами в одну точку. Что он мог ей сказать, кроме того, что знала она? Ничего. Утешать было нечем.
— Горушка, ну как же это случилось? Из-за чего?
Пока никто из домашних не спрашивал его об этом, Егору казалось, что он сможет рассказать очень много. Но, услышав вопрос матери, полный боли и страдания, он почувствовал, что ничего не сможет ответить, ничего не Сможет рассказать — ни о Мазае, ни о его придирках. Столкновения с ним показались сейчас Егору такими незначительными, такими мелкими, что и рассказывать о них было бы просто неловко. Егор молчал, а мать стояла и ждала. Потом он чуть пожал плечами, словно желая сказать, что и сам ничего не знает.
Анна Кузьминична, не дождавшись ответа, пошла к порогу. Тут он впервые за все утро взглянул ей в лицо; он даже захлебнулся воздухом — так поразила его перемена в матери. За ночь ее лицо похудело, осунулось, побледнело, а у глаз и на лбу появились глубокие морщины. Не глядя на него, Анна Кузьминична сказала:
— Есть захочешь — доставай из печки. Там все к обеду сготовлено.
Она взялась за дверную скобу. Потом вдруг остановилась… не оборачиваясь, прижала руки к вискам и с отчаянием сказала:
— Ну как я об этом позоре напишу отцу? Ведь он в госпитале! Я же ему другое писала. Поверила в хорошее…
Анна Кузьминична, не взглянув больше на Егора, тихо вышла из избы.