Мы расстались с Кронкайтом в двенадцать: он обрушился в кресло, и девушка начала снимать с него грим. В американском телевидении все настоящее — телефон звонит по правде, а не трещит будильник за кулисой в руках у ассистента; работают ЭВМ, а не зажигаются цифры, подготовленные декораторами; вот только ведущий неправдиво загримирован.
— Американцы не любят старых, некрасивых мужчин, — объяснил Кронкайт. — Ведущий обязан быть эталонным, ничего не поделаешь.
Мы попрощались и разъехались: он — домой, я — в гости к Генриху Боровику.
В пять часов утра к нам позвонил Дмитрий Темкин, наш старый друг. (Помните песню «Гриин хилз»? Музыку к фильму «Сто мужчин и одна девушка»?)
— Только что убит Кеннеди.
Боровик бросился к машинке, я поехал на Си-би-эс.
Кронкайт уже был здесь. Его трясло. Он сел на свое место — незагриммированный, седой, с мешками под глазами.
— Когда же кончится этот ужас? — спросил он Америку. — Когда? Неужели мы никогда не научимся ценить и беречь Человека?
Я вышел на улицу в семь часов. Люди шли сосредоточенно, обменивались улыбками, останавливались возле витрин, толпились около табачных киосков — словно бы ничего не произошло этой ночью, словно бы не погиб тот, кому они так аплодировали пять часов назад.
Господи, подумал тогда я, неужели новые скорости сделали мир таким равнодушным? Или же система гонки за миражом удачи делает всех черствыми друг к другу, взращивает эгоцентризм, какого еще не знало человечество? Или же здесь, среди грохота и гомона, категория случайного сделалась некоей закономерностью повседневности?
Жестокое было то утро в Нью-Йорке, жестокое, до самой горькой безнадежности жестокое.
Я вспомнил тогда ресторанчик ВТО на Пушкинской, ноябрь, потоки дождя на стеклах, веселое наше застолье и тишину, мертвую тишину, которая настала, когда кто-то, войдя с улицы, сказал тихо:
— Товарищи, убили Кеннеди.
Разошлись все вскорости, никто не пил. Оплакивали не президента США, нет, оплакивали отца двух малышей, Жаклин, которая стала вдовой, оплакивали человеческое горе…
Я не унижу себя утверждением, что-де, мол, «русские добрее американцев»; нет, наша система добрее, ибо человечны ее моральные устои.
И никто меня не упрекнет в пропаганде исключительности, ибо сие — социальная правда…
…А в Мессине, где я должен был сдать «фиатик», все обошлось. Приемщик даже не заглянул в багажник. Я, однако, сказал ему:
— Обидно, что вы не даете инструмент.
Приемщик ответил по-итальянски:
— Но парле инглезе.
Нет так нет, еще лучше.
Сосед по купе объяснил мне:
— Живи сам и давай жить другим. Если все машины, сдающиеся в аренду, будут оснащены запасными баллонами и набором инструментов, то что же делать фирме «автосос»? Объявить себя банкротом? Или нанять мафиози, чтобы вынудить компанию по аренде предлагать машины с дефектом?
Сосед достал из чемоданчика маленький приемник, выдвинул антенну, нашел радио Палермо. Передавали музыку — нежную, густую, солнце и тепло, томление и ожидание было в ней.
— Каприччиозо по-сицилийски, — сказал сосед, — мелодия безмятежного утра. Вам нравится?
Назавтра я прилетел в Москву. И хотя багаж разгружали куда как дольше, чем в Риме, и отсутствовали тележки, и надо было на себе тащить чемодан, пишущую машинку, хурджин и ящик с книгами, и таксист не подкатывал к тебе, а неторопливо и оценивающе спрашивал, не нужно ли мне ехать на вокзалы, я испытал блаженное, огромное, несколько расслабленное ощущение счастья.
Нужно ли объяснять — почему? Особенно после «путешествия по мафии»?
Думаю, объяснения не потребны.
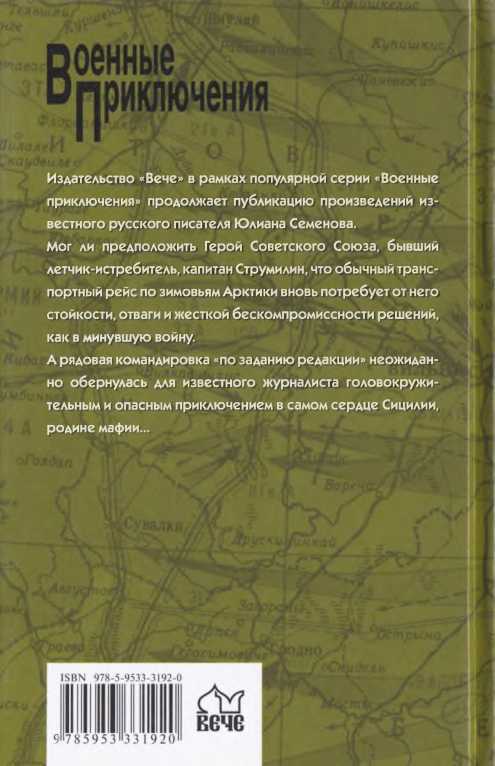
Александр Силецкий
Отпуск с убийцей
Глава 1
Он приехал.
Поезд в последний раз дернулся и встал.
В раскрытое окно — вагон, слава богу, старенький, без этих модных, вечно неработающих ухищрений — мигом ворвался особый, вокзальный гомон: все спрашивали и отвечали разом, лязгали тележки носильщиков, со всех сторон гнусаво грохотали репродукторы и слышались свистки, сопровождаемые тягостно-раскатистым шипеньем, точно невесть кто, громадный, но невидимый, обиженно вздыхал.
Он не любил эту суету, традиционно связанную с высадкой-посадкой.
Ему так часто приходилось ездить по стране (без экстренной нужды он самолетами предпочитал не пользоваться), да и за ее пределами, что давно уже утратилось то восторженно-приподнятое чувство, которое испытывает почти каждый, когда поезд делает остановку и надо наконец-то выходить.
Смешно, подумал он, я и теперь воспринимаю свой приезд, как будто у меня — простая деловая командировка. Но ведь нет же, нет, — отпуск!
Место от столицы в некотором роде удаленное, а в расписании указано, что поезду стоять тут черт-те сколько — целых двадцать пять минут.
Неписаный закон: чем далее от центра — тем длиннее остановки.
Может, так и надо, чтоб хоть этим компенсировать синдром глубинки.
Впрочем, не настолько уж глубинка: все-таки — районный центр. Но — не ближний.
И таким пребудет навсегда.
Он встал и сдернул с полки туго запакованный баул внушительных размеров.
Потом надел пиджак, поправил галстук и, задвинув до упора дверь, на несколько секунд застыл перед купейным тусклым зеркалом.
Чтобы увидеть себя хорошенько, ему пришлось даже немного подогнуть колени: ничего не поделаешь, метр девяносто семь — не очень в наши дни удобный рост, жизнь в основном налажена для более, так скажем, усредненных... Слава богу, лишний вес пока не тяготил, хотя бы это.
Спать в поездах, конечно, было далеко не просто... Но на самолетах он себя и вовсе чувствовал паршиво.
Да к тому же не в любую точку есть авиарейсы! А в глубинку добираться как-то надо.
На него из зеркала взглянуло заспанное, хмурое, с глубокими морщинами на лбу, землисто-бледное лицо, хотя и сохранившее черты неистребимой моложавости, которая бывает свойственна довольно многим обитателям столицы в энном поколении, — лицо юнца до старости: с таким порой и хочешь выглядеть солидно, а — не получается.
Поэтому, наверное, для пущей важности, он и отрастил себе бороду довольно пышную, в кудрявых завитках, с неблагородными — то там, то здесь седыми островками. Впрочем, у него все в роду по мужской линии седели очень рано, зато жили долго, вот что интересно.
А поскольку был он от рождения брюнет, то эти серебристые пучки смотрелись натуральными проплешинами, отчего вся борода имела вид вполне клочковатый и неухоженный.
Как, между прочим, и густая шевелюра — тоже с прядями седых волос.
Его это, понятно, удручало, ибо бороду свою он искренне любил и, вопреки поверхностному впечатлению, везде и постоянно, как мог, холил. И расстаться с эдаким богатством попросту не смел: уж слишком долго, целых двадцать лет, он прятал в бороду свое лицо — с тех самых пор, как поступил в Московский университет. И патлы, малость подувядшие с годами, очень редко отдавал во власть цирюлен — эти заведения он ненавидел с детства.
"Так-то, Михаил Викторович, друг мой Невский, — поддразнил он сам себя, скептически уставясь в зеркало, — вам тридцать восемь годиков, а вы все — как мальчишка. Бородатый и патлатый. И таким вас в гроб положат. Красота! Хотя. не грех бы и подкоротить. Людей пугать — зачем?"
Он задумчиво, привычным жестом, как краб клешней, прихватил бороду указательным и большим пальцами, немного подержал ее, оттягивая вниз, и вслед за тем легонько покачал головой. Потом достал из кармана пиджака расческу и тщательно все причесал, а бороду затем еще помял в ладонях и, ласкаючи, пригладил.
Все равно своим сегодняшним видом он остался недоволен.
"Может быть, вот это недовольство — и есть отчетливый симптом того, что скоро уже сорок, ну, а после сорока я понемножечку начну стареть?" неожиданно, но как-то очень вяло посетовал он про себя.